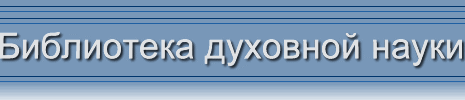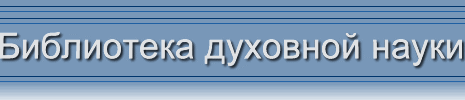Величанский Александр Леонидович (1940-1990) Избранное
* * *
Сегодня возили гравий.
И завтра —
возили гравий.
Сегодня в карты играли,
и завтра —
в карты играли.
А девочки шлют фотографии,
и службы проходит срок.
Вот скоро покончим с гравием
и будем возить
песок.
ВРЕМЕНИ НЕВИДИМАЯ ТВЕРДЬ
Стерлась времени невидимая твердь:
через травы, временно безлюдные,
Боголюбову едва ль теперь видней
Нерль, чем Нерли видно Боголюбово.
А на насыпи пустое полотно
между ними — поровну видно.
* * *
Страшен город Ленинград:
он походит на трактат,
что переведён с латыни
на российский невпопад.
К людям улицы стоят
корешками золотыми.
Там летают снег и гарь.
Там гарцует медный царь
псевдо-первенец великий
с головою многоликой
над жестянкой невских вод
серых, как водопровод.
В Ленинграде моря нет —
только камни да каналы,
да болот полуподвалы,
да дворцы без эполет —
на ближайших триста лет
море спрятано в анналы.
Но на Невский, как бывало,
вывел даму удалой её валет.
1968
* * *
Люди не ведают страха —
они привыкают к нему:
обеденный стол их — не плаха,
и дом не похож на тюрьму.
Бесстрашные, словно камни,
и вечные, словно прах,
пощелкивают замками
и сами внушают страх.
1968
* * *
Спускалось солнце в просеку.
С небес свисала ель.
Стоял солдатик простенький,
похожий на шинель,
глядел он виновато
на желтые снега —
с ножом и с автоматом
похожий на врага.
Снега валились с дерева
сквозь веток канитель.
Стоял солдатик серенький,
похожий на шинель,
и видел: на закате,
судьбу свою кляня,
стоит другой солдатик,
похожий на меня.
1968
* * *
Язык сначала жил один:
один он по полю ходил
и по нехоженым лесам
один метался сам.
В горах ему поклоны било эхо,
в ручье вода разучивала трель,
и ветер плел свою траву, как враль,
и пересмешник помирал от смеха.
Потом язык нашел возделанных людей —
Он впутался в их бороды и руки
и сразу поглупел, помолодел —
доныне все к его молчанью глухи.
1968
* * *
Я бы жил совсем иначе.
Я бы жил не так,
не бежал бы, сжав в комочек
проездной пятак.
Не толкался бы в вагоне,
стоя бы не спал.
На меня б двумя ногами
гражданин не встал.
Я бы жил в лесу усатом,
в наливном саду
этак в тыща восьмисотом
с хвостиком году.
И ко мне бы ездил в гости
через жнивь и гать
представитель старой власти
в карты поиграть.
1969
* * *
Вот увидишь — умрешь,
и тебя поймут.
Станет правдою ложь
через пять минут.
Ненадежно жилье,
как гнилая гать —
ну, а смерть не гниет,
надо полагать.
Тлен прекрасен и бел —
лишь окаменев.
А коль горько я пел —
по своей вине.
Принимаю удел —
временно не быть.
Я и сам не умел
вовремя любить.
1969
СНЕГОПАД
Закат за осиновой сетью померк.
И лед выступает дыханья поверх.
И яркая щель, что ведет в магазин
все ярче — с исходом небес и осин.
И снег заскрипел высоко в небесах
и падал потом, попадая впросак,
как в чашку лохматую сахар-песок —
исчез на губах, на ресницах просох.
Озимые люди по избам сидят.
Спасибо, соседи когда посетят:
ведь время — не сахар, и сердце — не лед,
и снежная баба за водкой идет.
1969
* * *
Мои стихи короче
июньской белой ночи,
но долгим свежим сумраком окружены они.
И вы о них мечтали
среди стекла и стали
в казенные безжизненные дни.
1969
СУМЕРКИ
«Папа, ты такой дурак —
это же не наш барак,
и крыльцо совсем не наше,
и не наш внизу овраг», —
говорит отцу Наташа.
«Не садись же, говорят!
Видишь, окна не горят,
и из труб не пышет сажа,
наших нет нигде ребят», —
говорит отцу Наташа.
«Ну, проснись же, ну, проснись!
Видишь, сколько кошек — брысь!
а людей не видно даже,
только вон один, кажись...»
Нет, их четверо, Наташа.
В МЕТРО
Я монетку черную найду
в толчее опилок и народа:
ну, монетка, ты какого года?
кто на медь добыл тебе руду?
* * *
Где окраины отшиб,
по ошибке, по ошибке
человек один погиб
в безвозвратном полушубке
ото всех людей вдали —
в чистом поле, в чистом поле:
даже тела не нашли,
даже больше — не искали.
О ЛЕНЕ, ПОЛЮБИВШЕЙ АЙЗЕНШТАТА
(сентиментальная пионерская баллада)
Горниста Айзенштата все любили:
он так горнил — потом так не горнили —
и песни пел всех выше на пол-тона
под аккомпанемент аккордеона.
Его любили за успехи в спорте,
за то, что он отважно бил по морде
врагов своих, и если враг был гордый,
не кулаками бил его, а горном.
Его любили девочки совместно.
От корешей ему бывало тесно.
Вожатые и прочее начальство
ему прощали ложь и зубоскальство.
Но Лена больше всех его любила:
всходило солнце или заходило —
все слушала и слушала запоем,
как он горнил подъемы и отбои.
А Айзенштат не обижал любивших —
глядевших, ни на шаг не отходивших —
и с каждым говорил о чем угодно,
и с каждой танцевал поочередно.
Но только Лене это было мало.
Она его за это ревновала.
И раз пройдя к нему сквозь окруженье,
поцеловать спросила разрешенья.
Тут все забыли про его таланты.
На девочках похолодели банты.
И кореша все шутки поглотали:
не свистнули и не захохотали.
А Айзенштат, потеребивши челку,
отвел ее под вековую елку,
где на стволе его инициалы,
и там она его поцеловала.
Да. На виду у всех поцеловала.
Но только Лене это было мало.
И вечером под долгий звук отбоя
она рыдала над своей судьбою.
...Но время ускользает от событий,
и шепоты той ночи позабыты —
ведь время это то, что миновало,
залив смолою все инициалы.
И лишь дружки горниста и спортсмена
запомнили забывшуюся сцену
и полюбили Лену до могилы,
хотя она не пела, не горнила.
ЭПИЗОД
Однажды Луначарский,
сказавши речь про классы,
и увидав начальство,
как будто в страшном сне,
упал с трибуны в массы,
упал с трибуны в массы,
разбился и измазался
и потерял пенснэ.
УРА!
Театральный режиссер,
модернист на вес —
и сколь ни был он остер —
еле в джинсы влез,
чтоб попасть в страну чудес —
ведь здесь у нас дыра —
приподнимает он желез-
ный занавес... Ура!
1973
* * *
Сообщалось судно течью
с вечностью пучин.
Но морские волки — те, что
знают, что почем —
судно кинули и, судя
по всему, спаслись.
Терпят бедствие на судне
только стаи крыс.
1980
* * *
Мне ближе всех пророчеств,
изысканных впотьмах,
трясущийся, как почерк,
мой пьяница-земляк,
который, вероятно,
не доживет (дай срок),
псевдо-лауреаты,
до ваших катастроф.
* * *
Отвлекаясь от бумаги,
ну, хотя б на миг,
скажем, что у нас в продмаге
(прямо в нем) мясник
удавился. Были толки,
отчего и как.
Но никто не смыслил толком
в смерти, в мясниках.
1980
* * *
Наблюдают недотроги,
как, от них зачав,
родина, раскинув ноги,
корчась, не крича,
не на белоснежном ложе —
за сарай зайдя,
ты рожаешь, и быть может,
мертвое дитя.
* * *
Вот с известием ужасным
прибыл вестник, но
не допущен к пировавшим,
коим все равно.
Вот другой за первым сразу
мчится... Нет конца
здравицам, пока проказа
не пришлет гонца.
1980
* * *
Когда убили одного,
все спрашивали: кто? кого?
когда? с какою целью?
солдат ли? офицер ли?
Когда убили десять лиц,
все вслух позорили убийц,
запомнив благосклонно
убитых поименно.
Когда убили сто персон,
никто не спрашивал имен —
ни жертв, ни убивавших,
а только — наших? ваших?
Когда убили миллион,
все погрузились в смертный сон,
испытывая скуку,
поскольку сон был в руку.
* * *
Уж мы резали его —
Андрея Боголюбского.
Крепок, крепок наш Андрей —
мертвый вышел из дверей.
Из дверей он из ворот...
Сохранились петли — вот.
* * *
Нет, не стать мне конформистом,
дорогой товарищ.
Чистый, чтобы подкормиться
звук не отоваришь.
Мне не петь в народном хоре
лихо, разудало:
«Во Содоме, во Гоморре
девица гуляла...»
* * *
Гроздь рябины на заре мороза:
стала сладкой горечь — это проза
Розанова: проба на разрыв
всех противоречий... И вопроса
нет — ответ настолько сиротлив.
(Осень. Набивая папиросу.)
Дата публикации: 28.09.2010, Прочитано: 5876 раз |