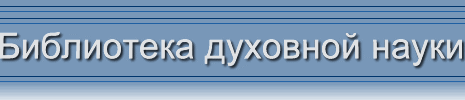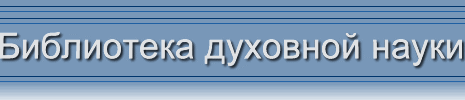Опубликовано в книге: Рудольф Штейнер,
Эгоизм в философии, M., Evidentis, 2004.
Очерк "Эгоизм в философии" был написан в 1899 году для вышедшего в свет в том же году сборника статей "Эгоизм" под редакцией Артура Дикса. Можно понять мотивы, побудившие издателя Дикса подготовить такую публикацию; конец века в Германии стоял уже достаточно зримо под знаком Ницше, чтобы тема, совсем недавно еще числящаяся среди "выходящих из ряда вон", могла претендовать на особое внимание в топике злободневных проблем. Очевидно, с другой стороны, что эта привилегированность определялась не просто выбором темы, а качеством её исполнения; среди читателей, испуганных ходом мыслей "Эгоизма в философии", издателю Диксу выпала сомнительная льгота быть если не единственным, то первым. Не то, чтобы он не был готов к неожиданностям выбранной им темы, но лимит неожиданного обрывался у него, вероятнее всего, где-то между Ибсеном, Ницше и les potes maudits, стало быть в зоне смысловых искривлений от "Бранда" и "Одного лета в аду" до "По ту сторону добра и зла". Насколько неадекватным должен был показаться ему "Эгоизм в философии", можно догадаться по редакторскому замечанию, которое он счел нужным предпослать статье, чтобы отмежеваться от неё путем апелляции к "плюрализму мнений": "Целью нашего труда не мог быть сборник статей, подчиненных совершенно одинаковой, односторонней и преднамеренной тенденции; напротив, наряду с коллективным, социальным и национальным эгоизмом должен был быть выслушан и чистый индивидуализм, чтобы вопросы, волнующие нас здесь, были остро освещены со всех сторон. Читателю придется на свой вкус решать, состоит ли "человечество" из полутора миллиарда "суверенных индивидов" или из некой цепи социальных организмов". Образованный социолог Дикc не мог, по-видимому, взять в толк, что "человечество" в обоих предложенных им вариантах было для автора "Эгоизма в философии" не более, чем пустым звуком, по сути, неразжеванным куском дарвинизма, которым успели уже поперхнуться, если не подавиться, науки, вроде антропологии и социологии. "Человечество", состоящее из сосчитанных "суверенных индивидов" (или "социальных организмов"), едва ли выходило за рамки представлений о стаде, "состоящем" из баранов, или мошкаре, "состоящей" из мошек. С равным успехом можно было бы сказать, что и мировая литература "состоит" из букв (или, если угодно, слов), но умные люди предпочли бы обойти эту очевидность молчанием, полагая, что состоятельно в мировой литературе всё же не то, из чего она "состоит", а те, кто её - творят... Читатель, к вкусу которого апеллирует издатель Дикс, избежит структуралистской безвкусицы читать настоящий текст, как "дистиллят" каких-то себе довлеющих смыслов, и прочтет его в пункте имманентности, именно: в свете правила, сформулированного самим автором(1): "Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые - и принимать или отвергать их, - а нужно видеть в них вестников его индивидуальности... Философия никогда не может передавать общезначимую истину, но она изображает внутренние переживания философа, посредством которых он толкует внешние явления". Соответственно, история философии есть история не общезначимых истин, а самих философов, их внутренних переживаний, в которых они тем больше расширяются до "мира", чем больше они сужаются до "себя", - некое абсолютное reductio ad hominem в перспективах объяснения всего-что-ни-есть из человека. Антропологии (так сказали бы мы сегодня), не желающей выродиться в специфический придаток зоологии, нужно было вытянуться до антропософии, и обойтись при этом без эгоизма, как осознавшего и осмыслившего себя мужества к антропоморфизму, не представлялось решительно никакой возможности. (Рудольф Штейнер в одной записной книжке 1923 года: "Следует приобрести мужество к антропоморфизму - мир должен быть найден из человека".)
За перепуганным издателем Диксом последовали перепуганные - антропософы. (Нотабене: не те, в ком дарвинистически парализованная антропология домыслила, доволила-таки себя до антропософии, а "пятая колонна" христианского теизма, притворяющегося непогибшим за внушительностью санскритских речений или "розенкрейцера" на груди.) Шокировало уже само слово эгоизм - на фоне повсеместно склоняемых "самоотверженности", "бескорыстия" и "жертвенности". Казус (как и множество других) списывали на счет "раннего" Штейнера, почитателя Ницше и друга Геккеля. До более интеллигентного прочтения текста, вчитывания в него доходило дело у очень немногих; вчитывание грозило потерей собственной, бесхитростной, как "сельская честь", антропософии, лопанием её, как мыльного пузыря, и поставленные перед выбором: либо штейнеровский оригинал антропософии, либо копии прокрустовых "своих", без колебаний отдавали предпочтение копиям и даже мотивировали выбор красноречивыми цитатами из "доктора". Конечно, оптимальным было бы как раз не переиздавать сомнительную и мало кому известную статью из доантропософского прошлого, чтобы не сбивать с толку честных малых (толк - теософский камуфляж старых теологических догм); но тогда пришлось бы держать ответ перед немногими упрямцами, отказывающимися иметь дело с какой-либо иной антропософией, кроме той, которая коренится в мире мыслей философа Штейнера; оставалось с тяжелым сердцем издавать текст повторно - в расчете на то, что этими немногими чтение и ограничится. Некий вздох облегчения последовал после того, как стало возможным заменить в заглавии эгоизм относительно благозвучным индивидуализмом, ссылаясь при этом на указание самого автора(2). Новое издание "Эгоизма в философии", под более пристойным заглавием: "Индивидуализм в философии", было выпущено в свет в 1939 году Секцией словесных и музыкальных искусств при Гётеануме в Дорнахе. Впрочем, и здесь не обошлось без эксцессов редакторского рессентимента: из текста, без каких-либо объяснений и оговорок, были изъяты три предложения вместе с дополнительной (в скобках) ссылкой автора на собственные книги "Истина и наука" и "Философия свободы", а также на двух родственно мыслящих современников. Скандальность случая, где дюжинному антропософскому издателю взбрело в голову отсебятничать в уже однажды изданном тексте, усиливается до вопиющести, если учесть, что вычеркнутое место имеет для статьи, а по существу и для всего творения Рудольфа Штейнера абсолютно решающее значение. Тема "Эгоизма в философии" - философское Я, которое хочет не только производить истины, но и существовать, причем существовать не милостью измышленной им самим потусторонней силы, а самодостаточно и своевольно (еще раз: не в моральном, а исключительно метафизическом смысле). Этот метафизический смысл сжат автором в формулу: "Понимающее само себя Я не может зависеть ни от чего иного, кроме себя. И ему не перед кем отвечать, кроме как перед самим собой". Чтобы читатель избежал соблазна воспринимать прочитанное в обманчивом свете историко-философских аналогий, скажем в линии от Фихте до Гуссерля, названное Я характеризуется в следующих трех предложениях, очевидно настолько ужаснувших издателя, что он счел нужным изъять их из текста: "После этих рассуждений представляется почти излишним сказать, что под Я может подразумеваться только воплощенное, реальное Я единичного человека, а не некое всеобщее, отвлеченное от него Я. Ибо последнее может быть получено только из реального Я путем абстракции. Таким образом, оно зависит от фактически существующего единичного человека". Нужно отдать должное профессиональной хватке дорнахских цензоров, обнаруживших не меньшую остроту реакции, чем их коллеги в Москве или Берлине (1939!). Нюх прирожденных убийц смысла безошибочно угадал, где и что надо резать, чтобы лишить текст его небывалой, неслыханной новизны и подать воплощенное, реальное Я "Эгоизма" под маской старого трансцендентального, по сути всё еще "божественного, слишком божественного" немецко-идеалистического Я или, в крайнем случае, фейербахианской "сущности человека", то есть, свести его обратно к тому, от чего оно освобождалось две с половиной тысячи лет и освободилось-таки в резолютивности вычеркнутых предложений. В этом дезактивированном антропософскими издателями тексте творца антропософии зеркально отразилась судьба самой антропософии, дезактивированной антропософами.
То, что истекшее столетие ухитрилось пройти мимо творения Рудольфа Штейнера, есть факт, который придется осмысливать во всех его последствиях, если, конечно, у наследников названного столетия будет еще потребность и возможность что-либо вообще осмысливать. Достаточно уже внешне окинуть взглядом масштабы и трансцендентность этого творения, чтобы проверить себя на честность и, в случае положительной реакции, опознать в себе того самого басенного ротозея, который в сплошном увлечении букашками или, если угодно, раздувающими себя лягушками - проглядел слона. Образ вполне безобидный, даже, по более пристальном рассмотрении, не вполне адекватный, если учесть, что дело идет не о случайной и разовой оплошности, а об оплошности, отшлифованной в метод: ротозей в данном случае - это не тот, кто просто не видит слона, а тот, кто не видит его намеренно, так сказать, в силу налаженной и контролируемой слепоты, по принципу: не вижу, следовательно, не существует. Подавляющее большинство образованных, полуобразованных, малообразованных и того менее образованных современников - от академической элиты до социологически опрашиваемых "всех" - никогда не слышало имени Штейнера или знает о нем только то, что он был оккультистом, теософом и ясновидцем, причем в последнем случае реакция на узнанное зависит от амбивалентности отношения к перечисленным предикатам: некто "ясновидец" оказывается в центре внимания, и тогда в смещенных перспективах читательской психики ему находится место разве что возле всякого рода "Кассандр", либо же он не вызывает никакого другого интереса, кроме негативного, и тогда всё в тех же смещенных перспективах он видится шарлатаном или самогипнотизером (а скорее всего и тем, и другим). Случай Штейнера поддается этой каталогизации, при условии что ротозей-каталогизатор категорически зажмуривает глаза или - в другой, более рафинированной версии - спит с открытыми глазами; но достаточно уже приоткрыть их на мгновение или на мгновение же стряхнуть с себя сон, чтобы увидеть, что "ясновидец" и творец духовной науки, запечатленной в более чем 350 томах всё еще публикуемого "полного собрания сочинений", меньше всего может быть понят из какой-либо оккультной или гностической традиции, больше всего из современной ему естественнонаучной мысли. Когда на рубеже столетий этот выпускник Венского Политехникума, пионер научного гётеведения и создатель оригинальнейшей теории познания (феноменологии sut generis, развивающей - до Гуссерля - темы Гуссерля в углублениях, и не снившихся Гуссерлю) принял решение "стать" теософом, и даже не в частном порядке, а взяв на себя руководство немецкой ветвью Теософского общества, это вызвало шок не только у друзей-единомышленников, но и у самих теософов, причем источником шока в обоих случаях оказывались две традиционно никак не совместимые друг с другом книги: "Философия свободы" (1894), основной философский труд Штейнера, и "Теософия" (1904), его основной духовнонаучный труд. Единственной возможностью кое-как замять скандал, или, если угодно, подать его в выгодном свете, было подвести его под жанр "обращения" в сценарной линии от Августина до Сведенборга или романтиков; речь шла бы тогда о молодом вольнодумце, требовавшем было замены Бога свободным человеком(3), но с годами прозревшем и отдавшем остаток жизни тщаниям в богомудрии. Между тем, ничего более нелепого нельзя было и придумать; автор "Теософии" не только не отрекался от "Философии свободы", но утверждал одинаковость интенций обеих книг(4), что, в свою очередь, наверняка должно было казаться абсурдным как недавним соратникам по вольнодумству, так и исполненным благочестия теософам. Если некто, поменявший "идеал Бога" на "идеал свободного человека", пришел-таки к "Богу", не сложив своей "свободы", а как раз употребив её, то очевидно, что этот "Бог" даже отдаленно не мог уже иметь ничего общего с "Богом" традиции, сделавшим (после опыта с Иовом) ставку на веру и перманентно вытесняемым с тех пор: сначала (теологически) в догму, потом (просветительски) в мораль и наконец (естественнонаучно) в "никуда", в несокрушимую насмешливость ницше-стендалевского: "Единственное оправдание Бога в том, что Его не существует". Проблема Бога в XIX веке - это проблема не веры, а знания, причем не мистического или какого угодно маргинального знания, а знания научного, больше: естественно научного, что значит: эмпирического, индуктивного, эпагогического, где "быть или не быть" Бога решается единственно наличием или отсутствием опыта о Боге, возможностью или невозможностью Его наблюдаемости; очевидно, что этому Богу, в эпоху смерти Его теистического двойника, предстояло еще явиться и выдержать феноменологическую проверку на очевидность - онтологический аргумент от Ставрогина: "чтобы сделать соус из зайца, нужно зайца", соответственно: "чтобы верить в Бога, нужно Бога", усиливался во втором случае поправкой на атеизм: "чтобы не верить в Бога, тоже нужно Бога", настоящего (в двойном смысле подлинности и сиюминутности) Бога, а не Бога "по выходным дням", не годящегося уже не то, чтобы в "хлеб насущный", но и к "сладкому столу"... История западной мысли, как перманентный поиск Бога, в которого можно было бы верить или не верить, оборачивалась историей (и кармой) философски безупречного осла, asinus Buridani, заморившего-таки себя голодом "нигилизма" между охапками веры и безверия, из неспособности как верить - но тогда уже без "потому что абсурдно", так и не верить - но тогда уже без "черных кошек" и оглядок на "пещеры и дебри Индостана". Мистерия перехода от "Философии свободы" к "Теософии" оттого и действует столь шокирующим образом, что ей нет аналога в традиции; от свободомыслия путь вел скорее в скепсис и пресыщенность, если угодно даже в гуманизм (между припадками мизантропии), но уж никак не в "оккультизм", если, конечно, казус не толковался задним числом на манер агиографических шаблонов. "Теософия" есть богомудрие; между тем свобода не была бы свободой, не будь она прежде всего свободой от Бога; что, впрочем, ужасало, так это не сама "смерть Бога", а то, что "после смерти Бога": пустота, на деле абсолютный нигилизм, или, если уж на то пошло, эгоизм, с неизбежным выходом в праксис вырождения и вседозволенности. От освобожденного можно было ожидать чего угодно и в каком угодно раскладе, по эпатажной шкале от Уайльда до героев Гюисманса, Арцыбашева или Пшибышевского; даже Макс Штирнер, протагонист конца западной философии, о котором она и по сей день имеет не больше представлений, чем о собственной смерти, не находит на грани превращения своей теории в жизнь иных слов, чем: "Я не забочусь больше о жизни, а "проматываю" её"(5). Что здесь ни при каких обстоятельствах не укладывалось в голове, так это - "теософия", причем теософия sut generis: очень странная теософия, путь к которой лежал через углубленное естествознание; если о творце антропософии и по сей день судят еще по переписываемому из книги в книгу трафарету, что его духовная наука коренится-де в буддизме (по другой версии, в западной эзотерике), короче в некой традиции, то это не больше, чем рецидивы ствердевшего в струп старого непонимания. Насколько глубоко это непонимание пустило корни даже среди антропософов, видно уже из текстов на суперобложках некоторых книг Штейнера, где среди прочего можно прочитать и следующее: "Антропософия являет ищущему человеку XX века новое спиритуальное миро- и человековоззрение, которое в отличие от восточных традиций коренится в западной духовной жизни и в центре которого стоит событие Христа". Хуже, при благих обнаруживаемы единственно в философском творении Штейнера, озаглавленном "Философия свободы", конкретно: в интуитивно переживаемом, беспредпосылочном, мышлении, имеющем основание в себе самом и in spe дающем всякой жизни (в том числе и западной духовной жизни) смысл и оправдание. Если в центре её стоит событие Христа, то не оттого, что она ко всему прочему уходит корнями еще и в христианство, а оттого, что в своей центральной интуиции, которая уже оттого не имеет ничего общего ни с какой традицией, что извечно свершается в "здесь и теперь", она опознает ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ В НАСТОЯЩЕМ космического Христа. - То, что философ и теософ Штейнер неизвестен большинству, не только объяснимо, но и в каком-то, вывихнутом, смысле даже естественно; большинство туго на подъем, а уж тем более на подъем духа, и предпочитает, как всегда, быть ведомым, скорее, за нос, чем собственным умом. Досадно лишь и уже едва ли в порядке вещей, когда большинство оказывается большинством антропософов, ведомых, как им кажется, хоть и собственным умом, но всё еще и тем решительнее за нос. "Эгоизм в философии" - очерк истории философского сознания, или самих философов, как эгоистов сознания, не решающихся осознать себя таковыми и оттого гипостазирующих сознание в метафизически объективную потусторонность. Можно было бы сказать и так: некое историко-философское аперсю, которое написал бы Макс Штирнер, приди ему в голову писать его, и будь он в состоянии вообще писать что-либо после уже написанного "Единственного и его достояния". Исключительный интерес Штейнера к скандальному и намертво замолчанному автору "Единственного"(6) вынуждает к радикальному, а главное, неизбежно альтернативному осмыслению случая; переиначив и в известном смысле даже удвоив известный парадокс Якоби о кантовской "вещи в себе", без которой нельзя войти в систему Канта, с которой, однако, там нельзя оставаться, мы скажем: с Штирнером нет никакой возможности ни войти в западную философию, ни в ней оставаться, но без него она походила бы на знаменитый лихтенберговский нож без рукоятки и с отсутствующим лезвием. Штирнер - подведение итогов или, если угодно, кармический счет, предъявленный двум с половиной тысячелетиям философской истории Запада. Нужно обратить внимание на исходную предпосылку этой истории, её абсолютный лимес, чтобы за множеством отклонений, кружных путей и ответвлений не упустить из виду линию её заострения, её прицельную дальность, как бы некий (вместе: неожиданный и неизбежный) конечный пункт её назначения. Начиная с Парменида, предпосылка эта осознана и означена как бытие, сначала (в языческой версии) как анонимное to on, далее (в христианской редакции) как единый Бог. Если абдериту Протагору выпала участь быть зачисленным в софисты, то виной тому была, очевидно, не столько неспособность современников и потомков воздать должное его субъективизму, сколько преждевременность самого субъективизма, иначе: невозможность подыскать ему "субъекта", отвечавшего бы его трансцендентальным притязаниям; положение: "человек есть мера вещей", могло бы стать путеводной звездой мысли, при условии что названный человек, во-первых, был бы, во-вторых, был бы назван по имени и, в-третьих, мог бы явить себя вещам, как меру. Между тем понадобилось тысячелетие, прежде чем проблема человека, как такового, могла быть вообще философски осознана, и осознана как апория, грозящая западной философии самоупразднением. Первые симптомы осознания падают на Новое время, причем по линии как рационализма, так и эмпиризма, с заострением в кантовский критицизм; центр тяжести смещается здесь с бытия на сознание, а сдвиг мотивируется категориальностью самого бытия, или его предицируемостью из сознания: "быть" значит быть осознанным, помысленным, просто воспринятым. Нетрудно было догадаться, что за этим коперниканским переворотом скрывалась лишь новая схоластика, именно, схоластика сознания, вытеснившая прежнюю схоластику бытия, но унаследовавшая - под антропологическим камуфляжем - её метафизическую атрибутику. Замена трансцендентного бытия (Бога) трансцендентальностью сознания не выходила за рамки скрытой ratiocinatio per analogiam; переместив центр тяжести с метафизики на критику познания, перенесли сюда и (терминологически нейтрализованные) привилегии старой онтологии, так что отличие картезианского или кантовского сознания от esse est Deus схоластической философии сводилось лишь к поправке в индексе модальности (вместо раздельных "трансцендентности" и "имманентности" получили, как скажет позже Гуссерль, "трансцендентность в имманентности"). Общим дефектом в том и другом случае оставалась чистая понятийность и отвлеченность; но если Бог теизма, внеположный сознанию и конституирующий сознание из надмирного бытия, мог еще пользоваться льготами своей философской неприкосновенности, то, изгнанный из бытия в сознание и сознанием конституируемый, Он рано или поздно должен был выдержать проверку на конкретность. Камнем преткновения выступил "человеческий фактор": "импондерабилии" единичных личностей, по отношению к которым как метафизическое бытие, так и гносеологическое сознание сохраняли статус абсолютной запредельности. Концы сошлись в немецком идеализме, хоть и стартующем у Фихте с абсолютной субъективности, но (уже в "Наукоучении" 1801 года) берущем курс на добрый старый "онтос". В кантовском единстве апперцепции, "Я" Фихте, абсолютном субъект-объектном тождестве Шеллинга, гегелевском Мировом Духе философское прошлое резюмируется прямо-таки в гармониях "Оды к радости", словно бы речь и в самом деле шла о кульминации, а не о тупике. Замаскированному однажды под "бытие", другой раз под "сознание" теистическому Богу Запада пришлось-таки споткнуться на оскорбительно ясном обстоятельстве, на такой мелочи, как "человек": не homo logicus силлогистических фигур, а конкретный имярек. Если философский бунт Штирнера был единодушно оценен как абсурд7, а позже и вовсе замолчан, то логика этого поведения заслуживает не меньшей снисходительности, чем скалолаз, чуть было не сорвавшийся однажды с головокружительной высоты и замалчивающий с тех пор скалы. Нужно было сбивать небывалый вкус "Единственного и его достояния" стилистическими пряностями Ницше или даже притуплять его трактирной патетикой Достоевского, чтобы читающая публика решилась хотя бы в облатках принять в себя серьезность случившегося. Штирнер - вирус философских программ: философ, уничтожающий философию, едва прикоснувшись к ней мыслью, причем мыслью, провоцируемой не эпатажем или парадоксами, а единственно желанием быть домысленной до конца. Если causa sui и принцип всех принципов статуируется не в бытии, а в сознании, значит начало философии, на какую бы объективность она ни рассчитывала, субъективно, и значит, субъективность есть начало философии. Hic salta! Ибо субъективность требует субъекта. По аналогии: схоластическая философия различала quidditas (чтойность) и дополняющую её haecceitas (этость): скажем, человечность, как таковую (humanitas), и человечность Сократа (Socratitas). Человек Сократ выступал дифференцированным (вот этим вот, hic) носителем человечности; ответ на вопрос о её общем носителе, так сказать, субъекте самого бытия оказывался соразмерным эпохе соборов и знамений: Бог. Понятно, что и новой философии пришлось на свой лад решать означенный вопрос - с оглядкой на схоластику и при её умолчании. Но если схоластическое решение лежало в Боге, а Бог был бытием, то новая философия, отталкивающаяся не от бытия, а от сознания, встала перед проблемой абсолютного субъекта сознания. Чтобы избежать разъедающего скепсиса Юма и растворения философии в релятивизме, Кант строго различил эмпирическую и трансцендентальную субъективность, передав последней права Бога теизма - правда, в сильно урезанной и теологически ненормативной редакции организатора мира математического естествознания. Субъектом-носителем сознания (сознания вообще) стал Трансцендентальный Субъект: в более утонченной, функциональной, версии, "чистая форма сознаваемости" (Риккерт), на фоне которой эмпирическому субъекту не оставалось ничего иного, как быть местом философских отходов, как-то: биологизма, феноменализма, психологизма и т. п. Парадокс приковывал внимание с очевидностью подожженного бикфордова шнура: если старое бытие реагировало на вопрос "что" и логически обобщалось в "чтойности" Бога, то очевидно, что сознание, субъект, Я могло откликаться исключительно на вопрос "кто", причем не иначе, как во множественном числе и персонально. Подвох лежал, однако, не столько в многообразии эмпирических субъектов (других сознаний), сколько в "кто" самого Трансцендентального Субъекта, перенявшего полномочия Божества и вынужденного делать ставку уже не на веру и мораль, а на логику и научный эксперимент. Оставалось отважиться на "абсурдный" вопрос: если Я эмпирического субъекта Фихте, вскоре после его рождения в 1762 году и до его смерти 29 января 1814 года, откликалось на "кто" Иоганна Готтлиба Фихте, то на "кого", собственно, могло бы откликнуться абсолютное Я философа Я Фихте? Разве не очевидно, что этому Я, не будь оно воплощено, выпала бы участь быть только-мыслью, только-понятием, nothing but a word несокрушимого англоязычного номинализма? Теологи лишь отсрочивали развязку, обходя молчанием вопрос: что делает Бог в эпоху научного материализма и университетского атеизма, чтобы не быть уволенным за просроченный платонизм? В ином ракурсе: если понятие Я воплощено, если оно не теоретично, а фактично, то В КОМ, ЧЬЕ, КТО? Мог бы философ Фихте сказать о своем "Наукоучении", как художник Флобер о своей героине: "Наукоучение - это Я"? Буквально: "Я Науко-учения - это мое, Фихтево, Я"? Христианской аудитории впору было бы вспомнить в этой связи христианского Бога, ставшего однажды плотью в попрание всех запретов и аксиом языческого коллегиума. Но Бог христианства, как известно, не снисходил сам до философствования, препоручив эту заботу как раз участникам названного коллегиума, которые с тех пор и присно дезинфицируют её в надежном дохристианском plusquamperfectum'e... Не секрет, что теология всегда спотыкалась о божественные парадоксы; её и не было бы в помине, как теологии, не научись она справляться с ними апелляцией к "безумию креста" или к заклинательным формулам типа "верую, ибо абсурдно". С философией, конечно же, дело обстояло иначе. За абсолютной невозможностью приспособить эти заклинания и к философии, где неприлично же было бы сохранять лицо, апеллируя к "безумию интеллекта", философам, поставленным перед проблемой эгоизма в философии, не оставалось иного выбора, чем между сведением своего Я к пучку представлений и мужеством не потерять самих себя в собственных мыслях8. В "Единственном" Штирнера западная философия, только что отпраздновавшая у Гегеля свою абсолютность, попадает в ловушку hysteron proteron. Штирнер, эксгегельянец, скорее раздраженный, чем воодушевленный попыткой Фейербаха низложить надмирную метафизику Гегеля средствами метафизически же вскормленного гуманизма, домысливает её эгоистически, именно: не останавливаясь, подобно Фейербаху, на абстрактно-родовой "сущности человека", в обратной перспективе вывернутого наизнанку, так сказать антропологизированного гегельянства, а доводя её до конца, до дальше некуда, до конкретного имярека, ну да: до Иоганна Каспара Шмидта, он же Макс Штирнер. Что случившееся легче всего уместилось бы в рубрике от великого до смешного, в этом согласно сходились "коллеги" как слева, так и справа; гораздо труднее было предположить обратный ход в один шаг, именно: от смешного до великого. Гегель, как известно, возвел философию в ранг абсолютного, причем не в рамках метафизического догматизма, а с позиций своеобразно осмысленного эволюционизма; если мир развивается и совершенствуется от низшего к высшему, то высшее мира есть сознание, соответственно, высшее сознания есть дух, а высшее духа - сознающая его философия. Таким образом, не философия существует, чтобы объяснять мир, а мир существует, чтобы становиться философией. Штирнеровский tour de force начинается с вопроса: ЧЬЕЙ философией? Ответ альтернативен: либо (в данном случае) гегелевской, либо - и уже принципиально - ничьей. Но если гегелевской, значит ли это, что Гегель сам и есть Мировой Дух? Допустив, что Творцу мира захотелось бы однажды выйти из-под опеки философов, тем более теологов, и - зафилософствовать самому... Увидел же однажды автор "Феноменологии духа" Мирового Духа на коне; отчего бы и не на ректорском стуле? Совсем в тональности последних туринских писем Ницше, но в полном здравии и без малейшего намека на срыв: "в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным берлинским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира". Мог ли сам Гегель не знать, чьей философией, кем собственно становится в нем мир? Предположить обратное, значило бы бросить на Дух, мыслящий себя, как мир, тень подозрения в утрате им идентичности... Против колкой и пьянящей необычности этих вопросов предостерегает школьная логика, дозволяющая заключать от общего к частному, но не от частного к общему (ab universali ad particulare valet, a particulari ad universale non valet consequentia), в рассматриваемом случае: от Мирового Духа к философу Гегелю, но не наоборот. Единственно допустимым ответом на вопрос: чья философия? оказывается тогда: ничья. Ничья философия, ничье сознание, ничей дух9: на это ничто и ставит апостат гегельянства Штирнер, а вслед за ним и экспериментатор нигилизма Ницше - оба с провалом в молчание и безумие. О Ницше, уже больном, говорит однажды Штейнер, что ответ на множество своих вопросов, оставленных им открытыми, Ницше нашел бы в "Философии свободы"(10); выше было предположено, что "Эгоизм в философии" написал бы Штирнер, будь он в состоянии писать, вообще жить после "Единственного и его достояния"(11). (Допустив, что жить и значило бы в этом случае: жить как "Единственный".) Штирнер: "Идеал "человек" реализован, когда христианское воззрение переходит в формулу: "Я, вот этот единственный, имярек, и есть человек". Понятийный вопрос: "что есть человек?" превратился тем самым в личный: "кто есть человек?" В случае "что" искали понятие, чтобы реализовать его; с вопросом "кто" в спрашивающем налицо уже не вопрос вообще, а ответ: вопрос сам отвечает на себя"(12). Интересно в этом отрывке между прочим и то, что он поддается не только философскому, но и христианскому прочтению, именно, как своего рода поправка к Пилату, к вопросу Пилата: "Что есть истина?" Христианской философии (по сути, всё еще старому платоновско-аристотелевскому симпосиону, и даже не столько в греческом, сколько арабском варианте) пришлось прождать свыше тысячи лет, пока на неё сошла, наконец, благодать понимания: пилатовский вопрос оставлен не отвеченным не потому, что спрашиваемому нечего на него ответить (Логос, зажатый в угол логиком!), а потому, что он поставлен неверно, неадекватно, мимо. Ответ на вопрос: "Что есть истина?" - асимметрично и имманентно - дан до самого вопроса: Иоан. 14,6: "Я есмь [...] истина". Пилату, а с ним и всему христианскому миру, понадобилось (понадобится!) пройти школу "безбожного" Штирнера, чтобы понять, что, стоя лицом к лицу с ВОПЛОЩЕННОЙ истиной, не спрашивают: "Что есть истина?", а спрашивают единственно: "КТО есть истина?", и спрашивают силою уже однажды данного и явленного ответа: "Я есмь [...] истина". От непонятого и так непонятого Бога путь не мог уже не вести к оглашенной Ницше смерти Бога, и вовсе заболтанной терминоохотливыми клерками XX века. Остается лишь догадываться, куда ведет путь от непонятого и так непонятого Человека, смерть которого с почти неприличной поспешностью стали уже загадывать последние из смешных эпигонов некогда великой философии.
Еще раз: парадокс ситуации лежит в её абсолютной тупиковости с точки зрения традиционной философии. Принципиальная необъективируемость Я, единственного понятия, денотат которого единичен и неповторим, обессмысливает всякую чисто логическую (генерализирующую) возможность эгологии. Логически можно обобщать всё что угодно, кроме того, кто обобщает сам. Ибо последнему, прежде чем обобщать самого себя, как человека, пришлось бы сперва реализовать себя, как человека, чтобы было что обобщать; школьная теория абстракции, по которой обобщение есть устранение индивидуального из вещей и удержание в них общих признаков, пожалуй только по жанру отличалась от мольеровского опиума, который действует снотворно, потому что в нем есть снотворная сила. Познание вещей внешнего мира результируется связью понятия и восприятия; вещь познана, когда мы заполняем её данную в восприятии форму понятийным содержанием (а не наоборот, пустое понятие слепым содержанием, как в кантовской критике познания). "Философия свободы" (гл. IX) оговаривает исключение из правила: "В случае человека это не так. Сумма его существования не определена без него самого: его действительное понятие, как нравственного человека (свободного ума), не соединено заранее и объективно с образом восприятия "человек", чтобы быть затем просто констатированным в познании. Человек должен сам по собственной инициативе соединить свое понятие с восприятием человек. Понятие и восприятие тождественны здесь лишь в том случае, если человек сам приводит их к тождественности. Но он способен на это лишь в том случае, если он нашел понятие свободного ума, то есть, свое собственное понятие". Это значит: понятие Я добывается не в акте абстрактно категориального синтеза, как в случае прочих вещей, а каждым в отдельности(13); я, имярек, воспринимающий себя (биологически) как человека, не могу обобщить себя в понятие "человек" (в буквальном смысле: понять себя) по той простой причине, что понятие это мне прежде нужно еще найти, и найти не на соседе, а на (понятийно) отсутствующем самом себе. Найти понятие Я, значит: стать Я, значит: воспринимать себя - конкретное, единичное Я - тождественным логическому Я, тому, силою которого каждый единичный обращается к себе на Я. Фихте, автор "Назначения человека", нашел его, не став им; мировое Я, полагающее у Фихте самого себя как Я, а после противополагающее себе Не-Я, в обоих случаях статуируется "частным" Я Фихте, которое по-платоновски может мыслить свою идею, но которому недостает христианской воли осуществить её в теле. Немецкий идеализм, резюмирующий послехристианскую философию, подобно тому как неоплатонизм резюмировал философию дохристианскую, так и не решился на эгоизм отождествления трансцендентального Я с эмпирическим Я(14). Решился - Штирнер: "опустившийся школяр, охальник, помешанный на Я, очевидно тяжелый психопат" (Карл Шмитт), но и его решимости хватило не на большее, чем манифест; до реализации понятия "человек" путем реализации понятия "познание" дело не дошло - безумие, настигшее автора "Единственного", разыгрывалось хоть и не столь зрелищно, как позже у Ницше, тоже попытавшегося стать "Единственным" и тоже выдохшегося на манифесте, но не менее аутентично: в долговой тюрьме, куда он дважды попадал в результате своих посреднических сделок... "Эгоизм в философии", время появления которого пало как раз на промежуток, разделяющий "Философию свободы", как науку и действительность штирнеровско-ницшевского жизневоззрения, и "Теософию", как введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека, есть, теоретически: экспликация бессознательного "штирнерианства" в философской традиции, практически же: расширение ВНУТРЕННЕГО МИРА автора до мира истории философии - перед его расширением в мир кармы и реинкарнации; философы освобождаются здесь от наследственного греха абстрактности тем, что рассматривают вселенную не в линии отчужденных философем и парадигм, а как свое достояние, себя же как владельцев и собственников вселенной. "Философия свободы" (гл. XIII) не поляризует мир влечений и мир мыслей, как низшее и природно-эгоистическое, с одной стороны, и высшее и благородное, с другой, а рассматривает их воедино, после чего оказывается, что влечения влекут отнюдь не только в "низшее", но и - не с меньшей страстью - в "высшее", а мысли распирает от такой витальности, перед которой блекнут всякие "биологизмы". "Для раскрытия всего человека требуются и вожделения, происходящие из духа. [...] Кто считает нравственные идеалы достижимыми лишь в том случае, если человек умерщвляет своеволие, тому неизвестно, что эти идеалы в такой же степени желаемы человеком, как удовлетворение так называемых животных потребностей"(15). В опубликованной вскоре после выхода в свет "Эгоизма" рецензии на книгу Германа Тюрка "Гениальный человек" эта мысль выражена еще раз в бьющем словами, как молотом, отрывке. Гениальный человек, по Тюрку, есть преодоленный в любовь эгоцентризм, отказ от субъективности в пользу объективности. Тюрк: "Там, где в игру вступает личный интерес, субъективность, себялюбие, истина посылается ко всем чертям. Если, таким образом, себялюбие, субъективность и ложь суть родственные понятия, то противоположность себялюбия, любовь, чистый интерес к самим вещам, объективность теснейшим образом связаны с истиной". На это возражает Рудольф Штейнер решительным: "Нет, и трижды нет! Где личный интерес, субъективность, себялюбие человека настолько облагорожены, что он заинтересован не только в собственной персоне, но и в целом мире, там единственно и лежит истина; если же человек столь убог, что он лишь через отрицание своего личного интереса, своей субъективности в состоянии заботиться о больших гешефтах мира, то он живет в злейшей лжи существования". И дальше: "Не отрекаться от себя должен человек; он не может этого. И кто говорит, что он может это, тот лжет. Но себялюбие способно вознестись до высших интересов мира. Я могу заботиться о делах всего человечества, потому что они в такой же степени интересуют меня, как мои собственные, потому что они стали моими собственными. "Собственник" Штирнера - не ограниченный индивид, замкнувшийся в себе и предоставляющий миру быть просто миром; нет, этот "собственник" есть настоящий представитель Мирового Духа, который приобретает себе весь мир как "собственность", чтобы таким образом распоряжаться делами мира как своими собственными делами. Расширьте лишь прежде вашу самость до самости мира, и поступайте затем всё время эгоистично. Будьте как торговка, торгующая на рынке яйцами. Только заботьтесь из эгоизма не о гешефте яиц, а заботьтесь из эгоизма о мировом гешефте!"(16). Повелительное наклонение не должно сбивать с толку: это не императив, того менее призыв или побуждение, а условие. С отказом от личного эмпирического Я в пользу абстрактного и абсолютного философ, сам того не замечая, переставал, как философ, жить. Фатальным образом ему самому приходилось испускать дух как раз там, где он начинал рассуждать о духе; ну какому же биографу Гегеля пришло бы в голову вычитывать подлинную, не рассредоточенную отвлечениями в несущественное, нетленную гегелевскую жизнь из "Феноменологии духа"! Где философ не мог (или не хотел) жить, так это в собственных мыслях; живи он в них столь же стихийно и импульсивно, как иная чувственная натура живет в непредсказуемости своих страстей, мы имели бы наверняка решительно иное представление о жизни, чем это обнаруживается в импликациях обывательской фразы "такова жизнь". Обывателю пришлось бы затаить дыхание перед философом, вознамерившимся - жить. Ибо философ живет в Я, как обыватель живет в теле. В контексте "Философии свободы": философ - это уже не тот, кто (в старом просветительском смысле) имеет мужество пользоваться собственным умом, ни даже тот, кто способен возвести свое мышление до синопсиса вещей, или идеации их чистых сущностей, а тот, кто переживает свое мышление с непосредственностью перцептивных реакций, кто живет в мыслях как в теле и ощущает в себе Дух Мира как собственную душу. Иначе: философ - это единственный. Возможна - уже из духовнонаучной перспективы - и следующая аналогия: если в обычной, прижизненной, иерархии человеческого существа физическое тело есть низший член, а Я высший, то случай философа антиципирует посмертный расклад: в функции физического тела (носителя) выступает его Я, а в функции Я - Дух, который так же отождествляет себя с Я, как последнее по обыкновению отождествляет себя с физическим телом. Если при случае этот философ ("чистый и абсолютный эгоист") примет решение раздарить свое Я - СЕБЯ САМОГО как Я - терпящим нужду ближним: картезианским автоматам, полагающим, в простоте analogia entis, что и они уже люди, тогда как человеческого в них попросту даже еще и не начиналось; если, иными словами, он решит преподавать свою философию так, чтобы желающие учиться получали через неё не знания, а самих себя, то в этом решении, а вовсе не в какой-либо традиции, восточной или западной, всё равно, и следовало бы искать начало АНТРОПОСОФИИ.
Увиденный так, а именно биографически, "Эгоизм в философии" обнаруживает себя как связующее звено между философски несовместимыми мирами "Философии свободы" и "Теософии". Тщетно и во всех смыслах нелепо читать его как "философию" в расхожем смысле, тем более как некий замкнутый в себе философский дискурс - по модной модели "произведения без автора". Это произведение и есть сам автор, некий род биографии СОЗНАНИЯ, расширяющегося до ТВОРЕНИЯ. Эдуард фон Гартманн ("умнейшая личность XIX века", скажет о нем впоследствии Штейнер), испещривший свой экземпляр "Философии свободы" заметками на полях, не увидел в ней ничего, кроме (по его мнению, даже и не осознанной автором) опасности солипсизма, абсолютного иллюзионизма и агностицизма. Нетрудно догадаться, что в "Эгоизме в философии" он усмотрел бы лишь потенцированное подтверждение своей оценки. Гартманн умер в 1906 году. Двумя годами раньше вышла в свет книга "Теософия". Понятно, что "классика" Гартманна должно было оттолкнуть уже само её заглавие; но это было личной причудой великого метафизика, никак не относящейся к делу. Книга "Теософия" носит подзаголовок: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. Так сформулировано это автором, обвиненным философски в солипсизме, иллюзионизме и агностицизме. Гартманну, случись ему прокомментировать и "Теософию", пришлось бы улаживать казус "агностицизма", вводящего в "сверхчувственное познание мира", и "солипсизма", ушедшего в тему "назначение человека"... Понятно, что единственным выходом было растождествить обе книги и каталогизировать их по абсолютно разным рубрикам, несмотря на их подчеркнутую автором гомогенность. Можно сказать и так: критик философа Штейнера Гартманн наверняка был бы прав, остановись философ Штейнер на "Философии свободы" и вариациях к ней ("Эгоизм в философии" и есть историко-философская вариация "Философии свободы"), то есть, в конечном счете на теории, скажем: стань он университетским профессором и преподавай он собственное мировоззрение; с чисто теоретической точки зрения штейнеровское мировоззрение оказывается не логической или метафизической конструкцией, симметрично рассчитанной на критику и всякого рода рецензии, а неслыханным, небывалым, беспрецедентным притязанием - по сути, реактивизацией жизненного мира, в нехоженностях которого пропали Штирнер и Ницше, но и без сколько-нибудь предсказуемых развязок, как у последних, которым удалось-таки несколько смягчить нелепость воззрений уходом со сцены в одном случае, и роскошествами стиля в другом... Очевидно: читая "Эгоизм в философии", мы находимся в режиме перехода, и логика, по которой нам приходится осмысливать событие, если мы хотим понять его, а не закидать словами, должна строиться как раз в движении мысли, меньше всего в стоянии на месте с каждый раз соответствующей месту терминологией. В последнем случае событие Штейнер(17) уже по одному тому должно замалчиваться или отвергаться философами, что черта "стояния" здесь - грань, за которой нет и не может быть никакой философии, по крайней мере философии, как познания, тем более "по естественнонаучному методу". Страж философского порога Гартманн не увидел в философском "дебютанте" Штейнере ничего, кроме попытки объективации юмовского феноменализма через гегелевскую абсолютность мышления; эта оценка могла бы отвечать действительности, при условии что в таком случае в феноменализме не осталось бы ничего от Юма, а в абсолютности мышления от Гегеля - но она же бьет мимо, если представить себе абсурд соединения Юма с Гегелем, где и Юм продолжал бы оставаться Юмом, и Гегель Гегелем. Но попробуем-ка вообразить себе философа, который был бы готов взять на себя ответственность следующей фундаментальной интуиции штейнеровского мировоззрения: мышление, свершающееся (если угодно, по Юму) в субъекте, принадлежит не субъекту, как таковому, а (если угодно, по Гегелю) природному свершению, МИРУ, и мир без участия в нем мышления был бы так же онтологически не завершен, как корень растения без плода или как организм без головы... Не легче выглядит картина и с другого - "теософического" - конца, где антропософия, тоже остановленная, воспринимается не иначе, как гнозис, мистика, оккультизм и тому подобный жупел (см. справочники и энциклопедии). Можно было бы еще раз вспомнить парадокс Якоби и следующим образом парафразировать его, на этот раз в антропософской топике: без философии нельзя войти в антропософию, с философией нельзя в ней оставаться. Оставаться, значит: останавливаться. Мы читаем иначе, с поправкой на движение: без философии нельзя войти в антропософию, с философией можно в ней оставаться, если не останавливаться. Остолбеневшую логику стояния силимся мы растормошить логикой перехода. Мы говорим тогда: "Эгоизм в философии" без перехода в антропософию был бы (по Гартманну) "сползанием в бездну нефилософии", но и антропософия без перехода в неё из "Эгоизма в философии" была бы - для антропософов не больше, чем "спиритуализмом, коренящимся в западной духовной жизни", а для философски более взыскательной публики не больше, чем курьезом. Осмысляя превращение этого сослагательного наклонения в изъявительное, мы мысленно присутствуем при возникновении духовной науки в Рудольфе Штейнере.
Базель, 18 февраля 2003 года
Примечания
1 Во вступительной статье к гётевским "Изречениям в прозе" (1897).
2 "Моя статья была озаглавлена так лишь потому, что этого требовало общее название книги. Собственно, статья должна была бы называться "Индивидуализм в философии"" (R. Steiner, Mein Lebensgang, Stuttgart 1975, S. 290). Эта поправка, скорее всего, рассчитана на антропософов, или уже на всех тех, кто не в состоянии воспринять и осмыслить понятие "эгоизм" имманентным авторской интенции образом, то есть, как философскую и метафизическую категорию, лишенную какого-либо морального привкуса. Конъюнктив замены одного слова другим, таким образом, имел предпосылкой не принципиальную установку, а лишь более щадящий режим отношения с читателями.
3 "An Gottes Stelle den freien Menschen!!!" Запись в дружеском "Альбоме признаний" от 8 февраля 1892 года.
4 Из предисловия к третьему изданию "Теософии": "Кто захочет еще на другом пути искать изложенные здесь истины, тот найдет его в моей "Философии свободы". Эти обе книги по-разному стремятся к одной и той же цели. Для понимания одной вовсе не необходимо прочтение другой, хотя для иного читателя, конечно же, полезно".
5 М. Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1991, S. 359.
6 Засвидетельствованный, между прочим, в письме к Дж. Г.Маккаю, издателю Штирнера и автору его и по сей день еще остающейся непревзойденной биографии, от 5 декабря 1893 года, то есть, непосредственно после выхода в свет "Философии свободы". "Первая часть моей книги образует философский фундамент для штирнеровского жизневоззрения. Сделанные мною во второй части "Философии свободы" этические выводы из моих предпосылок находятся, как я полагаю, в полном согласии с рассуждениями книги "Единственный и его достояние"" (Briefe, Bd. II, Dornach, 1953, S. 143).
7 Книга "Единственный и его достояние" сразу по выходе в свет была конфискована и запрещена к продаже решением саксонской окружной администрации; через несколько дней запрет был отменен министром внутренних дел, которому книга показалась "слишком абсурдной", чтобы быть опасной. См. J. Н. Mackay, Max Stirner. Sein Leben und sein Werk, Berlin 1914, S. 127.
8 Академическая философия должна не на шутку встревожиться, если названную проблему открытым текстом формулирует не кто иной, как автор "Философии как строгой науки" и "Картезианских медитаций". В § 57 "Кризиса европейских наук" Гуссерль пытается пройти через игольное ушко "Штирнер": "Неизбежным оставалось различие между эмпирической и трансцендентальной субъективностью, но неизбежной же, а вместе и непонятной оставалась и их идентичность. Я сам, в качестве трансцендентального Я, "конституирую" мир, и в то же время, будучи существом, наделенным душой, являюсь человеческим Я в мире. Рассудок, предписывающий миру свой закон, есть мой трансцендентальный рассудок, но ведь и меня самого формирует он по этим законам, он, который является же моей, философа, душевной способностью. Полагающее самое себя Я, о котором говорит Фихте, может ли оно быть иным Я, чем Я Фихте? При условии, конечно, что это не фактическая абсурдность, а поддающаяся разрешению парадоксальность, какой же еще метод мог бы помочь нам достичь здесь ясности, если не метод опроса нашего внутреннего опыта и осуществляемого в его рамках анализа? Если речь идет о некоем трансцендентальном "сознании вообще", если не Я, как вот это вот индивидуально-единичное Я, может быть носителем конституирующего природу рассудка, разве не самое время мне спросить, каким образом я поверх моего индивидуального самосознания могу обладать еще и общим, трансцендентально-интерсубъективным?" (Husserl, Die Krisis der europ?ischen Wissenschaften und die transzendentale Ph?nomenologie. Ges. Schriften, Bd. 8, Hamburg 1992, S. 205f.) Некоторая трагичность - не только личного, но и эпохального порядка, - бросается в глаза, когда мыслитель ранга Гуссерля завершает свою философскую жизнь робкой попыткой рекапитуляции "Эгоизма в философии", ничего не зная или, скорее, не желая знать о его авторе.
9 Вот и Густав Шпет в умнейшей статье "Сознание и его собственник" (1916) размышляет о ничейности сознания. "Чье же сознание? - Свое собственное, свободное! А это и значит, другими словами, что - ничье!... В конце концов, так же нельзя сказать, чье сознание, как нельзя сказать, чье пространство, чей воздух, хотя бы всякий был убежден, что воздух, которым он дышит, есть его воздух и пространство, которое он занимает, есть его пространство, - они "естественны", "природны", составляют "природу" и относятся к ней, "принадлежат" ей" (Г. Г. Шпет, Философские этюды, М., 1994, с. 107-108). Этот безупречный вывод должен быть продолжен; остановиться на нем значило бы, откатиться "назад к Горгию" (там же, с. 220). То, что воздух и пространство "принадлежат" природе, столь же несомненно, как и то, что природе же "принадлежит" и мысль об этом, причем уже не той природе, в которой пространство и воздух, а той, которая САМА мысль! Антропософия, смогшая бы начаться у утонченного скептика Шпета, начинается с раскавыченной, разязыченной, осознавшей себя как человек природы, которая лишь в восприятии предстает чуждой и внешней, в сущности же своей (как мыслимая) есть мысль, а как мысль - МЫСЛЯЩИЙ. Приходя путем острейшего анализа к ничейному сознанию, приходят ведь именно к сознанию ничейного сознания, и тогда уже с двухярусным вопросом: а ничейно ли и само осознание того, что сознание ничейно! Иначе: если воздух и пространство "принадлежат" природе, то чему (кому) принадлежит сама природа? Несудьбой философа Шпета было пройти мимо ответа: "Для человека противоположность объективного внешнего восприятия и субъективного внутреннего мира мысли существует лишь до тех пор, пока он не обнаруживает, что эти миры составляют одно целое. Внутренний мир человека и есть внутреннее природы" (R.Steiner, Einleitung zu Goethes "Sprache in Prosa", in: Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von Rudolf Steiner, Bd. 5, Dornach 1982, S. 341). Мы читаем: не вообще человека, а конкретного одного, того, кто расширил свое сознание до природы, несет в себе природу естествоиспытателей как ДУШУ, существует как природа. Аподиктум ничейного сознания санкционируемый ссылками на "Ивана Ивановича" и "Ивана Петровича" (шпетовские свидетели), с одной стороны, и на общую "природу", с другой, антропософски преображается в возможность ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПРИРОДЫ.
10 Briefe II, Dornach 1987, S. 238f.
11 Он прожил-таки еще одиннадцать лет, как торговый агент по продаже молока, и умер (25 июня 1856 года) от укуса ядовитой мухи.
12 М. Stirner, a.a.O., S.411f.
13 "Теософия" формулирует это следующим образом: "В духовном отношении каждый человек сам по себе есть отдельный род" (R. Steiner, Theosophie, Dornach 1943, S. 56).
14 Карл Баллмер: "Немецкий идеализм терпит неудачу, так как он не вбирает проблему Христа в свою волю" (Karl Ballmer, Anthroposophie und Christengemeinschaft, Siegen/Sancey le Grand 1995, S. 87).
15 R.Steiner, Die Philosophie der Freiheit. Grundzage einer modernen Weltanschauung, Berlin 1894, S. 221f.
16 R. Steiner, Methodische Grundlagen der Anthroposophie. Ges. Aufsatze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Asthetik und Seelenkunde 1884-1901, Dornach 1961, S. 429, 431f.
17 "Das Ereignis Rudolf Steiner" (Карл Баллмер).