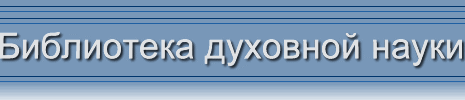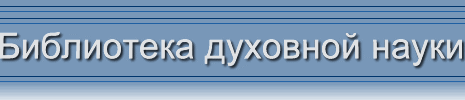Опубликовано с сокращениями в журнале
"Вопросы философии" 2/2005.
1. Терроризм дискурса
1.
Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных "жизненных миров". У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: "Вы, просто, ну какой-то психопат!", что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и "душой", могло бы вполне сойти за комплимент. С другой стороны, едва ли, живя в XIX веке, мы засвидетельствовали бы свой восторг перед кем-нибудь в словах: "какой обалденный человек!", хотя в наше время лучшего комплимента при случае и нельзя придумать. Некоему лексическому демону было угодно, чтобы "психопат" стоял сегодня в том же ряду значений, в котором вчера стоял "обалденный" (от балда = балбес, болван). Слова - "адские машины". А значит, пишущему или говорящему следовало бы брать пример не с коллег по цеху, а, скорее, с сапера, передвигающегося по минному полю. Каждый знает, что в последнем случае малейшая небрежность может разнести его в куски. Тем неряшливее ведут себя в первом случае, надеясь прослыть не психопатом, а всё еще балбесом.
2.
Можно допустить, что ни в одно из прежних времен требование это не казалось столь категоричным, как в наше время. Ибо никогда еще понятия не подвергались большему риску, чем сегодня. Их судьба разыгрывалась всегда в логическом вакууме, где они могли быть точными или неопределенными, противоречивыми или свободными от противоречий и оттого не заслуживали иной участи, кроме чисто логической. В теологии понятий всё решала правильность или неправильность их употребления; во всяком случае в более ранние времена ухитрялись еще уберечь их от непостоянства вещей, которые они выражали, изгоняя всё непокорное, логически несговорчивое в вещах в психологию или мифологию. Понятие считалось тем стабильнее, чем надежнее оно было охранено от вируса вещей. Оттого подведение вещи под понятие отнюдь не означало еще понятности вещи, а только её социальность, включенность в систему неких договоренностей и абсолютную подчиненность логике, по правилу: понятие без вещи хоть и пусто, но есть, тогда как вещь без понятия даже не ничто и даже не абсурд (поскольку ничто и абсурд суть уже понятия). Парадокс западной логики лежал, впрочем, не в том, что она гордилась своей "чистотой", а в том, что ей всегда приходилось обслуживать более удачливых коллег по факультету: сначала богословие, потом этику, наконец естествознание, причем без намека на "комплекс неполноценности", напротив: с неожиданными в её случае пафосом и лиричностью (Кант, рассуждая об этих материях, обнаруживает наплыв чувств, который скорее выдержала бы скрипка, чем дискурсия). Вещам, обработанным в понятиях, надлежало быть добрыми и злыми, причем не здесь-и-теперь, а вообще. Сами понятия этой обработке не подлежали никак. Одна единственная йота могла после 325 года стать судьбой христианства и оспаривать у носа Клеопатры его всемирно-историческое значение, но никому не взбрело бы в голову на этом основании заклеймить "йоту" или даже "нос", как таковые! Наверняка только детской фантазии "от двух до пяти" было бы под силу объявить злым само понятие злого. В XX веке это делают уже не дети, а компетентные клерки. Совсем идеальные образцы оставил в этом отношении большевизм, enfant terrible гегельянства, идеализм которого зашел так далеко, что он попросту табуизировал некоторые понятия, после чего риск пользования ими уравнялся риску потери головы. Если атеизм и был объявлен здесь воинствующим и обязательным для всех, то он тем очевиднее являл свою одержимость Богом, который, как это знал еще Достоевский и уже чувствовал Блок, скорее узнал бы себя таким в ненависти, чем никаким в вере. Некоторое время после 1917 года существовали даже пролетарские трибуналы над Богом, где за отсутствием персонального Бога судилась идея Бога (своеобразный респонсорий заключительных аккордов "Феноменологии духа", где дух, грезящий до этого о Голгофе, как о своей реальности, вырывается из-под наркотической опеки метафизики и обретает реальность в "смертной казни через расстрел"). Зачитывался длинный список преступлений, после чего объявлялся смертный приговор: специальное подразделение вскидывало винтовки и по команде палило по небу. Всесилие цензуры в советские времена дублировало всесилие тайной полиции; цензор нагонял такой же страх в "умном месте" Платона, какой человек "в кожанке" нагонял в повседневном пространстве. Непрерывная чистка проводилась и там и здесь по принципу проверки на верность и преданность. Некоторые понятия напоминали снятые скальпы идеологических противников, другие порождали условные рефлексы страха и подполья; шкала подозрительности помысленного колебалась между нежелательными и запрещенными понятиями; встречались и льготные понятия, так сказать, понятия "по блату" (диалектика Гегеля под покровительством Маркса). Эта полиция мысли была позже mutatis mutandis скопирована национал-социализмом, который, в свою очередь, обогатил index verborum prohibitorum некоторыми характерными новинками. Нельзя достаточно надивиться факту, с какой виртуозностью победоносный номинализм пользуется в XX веке средствами давно забракованного реализма. Понятия - nomina, flatus vocis, - над которыми ученая публика потешалась в предложениях типа: "понятие собака не кусает", обнаружили тем временем поразительную живость и, так сказать, "кусачесть". Внезапно они предстали более реальными и действенными, чем вещи, и ничего не страшатся в XX веке сильнее, чем понятий и слов. Может быть, нашему погрязшему в номинализме времени сподобится еще осознать себя как время величайшего триумфа понятийного реализма. Нужно будет лишь осмыслить однажды технику этого парадокса: хотя понятия и существуют до вещей (ante rem), но не как метафизически-гипостазированные сущности, а как человеческие соглашения путем регламентации и договоренности. Памятная интрижка американского экс-президента войдет еще в будущие учебники логолингвистики. Речь шла вовсе не о том, что бойкий господин Белого дома на деле вытворял со своей послушной практиканткой, а единственно о том, как это квалифицировалось юридически. Известно, что ему пришлось бы, как лжецу, досрочно сложить с себя президентство, будь его подростковые шалости оценены как раз по баллу полового сношения. Мы знаем, к какому выводу - случаю было угодно, чтобы это совпало по времени с strikes against Yugoslavia - пришли осведомленные эксперты. То, что поседевший озорник практиковал с юной девушкой, столь же мало подпадало под определение полового акта, как одновременные бомбежки Югославии под определение войны (они шли по разряду "миротворческой акции"). Вывод: ни одна вещь не называется, как она есть, но всякая вещь есть, как она называется. Ведьмы в прологе Макбета уславливаются, что прекрасное безобразно, а безобразное прекрасно (fair is foul, and foul is fair), после чего вещам не остается ничего иного, как вести себя сообразно этому соглашению!
3.
Реализм номинализма лучше всего проясняется на примере понятия войны, криминализацию которого в послевоенный период выразительно описал Карл Шмитт. Как известно, в XX веке объявляют войну войне, точнее: понятию войны, отчего последнее полностью криминализируется и объявляется противоправным. Но война, криминализированная в понятии, оказывается (по-кантовски) трансцендентально криминальной, что значит: криминальной на все времена и при всех обстоятельствах. Следует лишь не упускать из виду ближайшее реальное следствие из этой монументальной акции по перевоспитанию мировой истории: за невозможностью упразднить войну, как деяние, её иллегитимируют как понятие, вследствие чего она должна стать беспределом, чтобы не впасть в противоречие со своей логической изгойностью. Какие бы возможности растяжки ни представлял смысл старой фразы a la guerre comme a la guerre, было бы в самом деле нелепостью напоминать мужам, сшибшимся на поле боя, о шестой заповеди или об их праве воевать в присутствии своих адвокатов. В то же время едва ли может быть оспорено, что каждый миг войны (до того, разумеется, как она очутилась под опекой борцов за мир), был, несмотря на ярость уничтожения, чреват такими прорывами великодушия и человеческого достоинства, о которых в мирное время мало кто мог бы догадаться. К понятию войны, пока оно не было еще криминализировано, принадлежало, очевидно, не только низменное и злобное, но и рыцарское и благородное, временами едва ли не на самый невероятный лад, как об этом свидетельствует, к примеру, восхитительный эпизод битвы при Фонтенуа 11 мая 1745 года, когда фронтально столкнувшиеся противники, лорд Хэй, капитан английских гвардейцев, и француз граф д'Отрош, пытались насмерть перещеголять друг друга по части куртуазии. "Велите Вашим людям открыть огонь!", сказал один, на что другой возразил: "О нет, сударь, только после Вас!" Хотя то, что началось после этого обмена любезностями, трудно было бы назвать иначе, чем мясорубкой, нет сомнений, что именно вдохновению войны были оба названных солдата обязаны сценкой, украсившей бы трагедии Расина или Корнеля. Эти люди знали еще, что война, поверх всякого пацифистского красноречия, принадлежит судьбе и есть судьба, и что судьбу эту осиливают не тем, что указывают ей на дверь или даже объявляют её несуществующей, а тем, что сопровождают жестокость душевным величием и благородством. По степени недовольства, которое последняя фраза способна вызвать у читателя, могла бы быть оценена вся запущенность и неприкаянность проблемы в современном сознании.
4.
В феноменологии терроризма смерть лишь проводит черту под лингвистической эмфазой. Когда Кромвель осознал неизбежность стать цареубийцей, его заботой оказалось не столько то, что придется отрубить голову королю, сколько то, чтобы приговор был составлен со всей юридической и метафизической безупречностью. Что, впрочем, мешало терроризму достичь логической чистоты, был его досадно личностный характер. Наше время оказалось и в этом отношении достойным себя. Терроризм дискурса, значительно сдерживавшийся или маскирующийся еще в первой половине XX века персональной харизматикой вождей, врывается в послевоенное пространство объявлением войны всему личностному и, стало быть, непредсказуемому. Модные структуралисты (или постструктуралисты) от Фуко и Барта до Деррида лишь трансформируют естественнонаучный атеизм в атеизм литературоведческий, где лапласовская ненужность Бога вселенной деградирует до ненужности автора литературного текста. Пространство мира, как и пространство текста, очищается тем самым от транскаузальных скачков вдохновения и родовых схваток и переключается на режим "автопилота", при котором некто ученый Барт довольствуется скромной ролью пресс-секретаря, камердинера или даже охранника. После "смерти автора" права и привилегии личностного переходят к самому дискурсу. Понятию войны следуют и другие понятия, криминализация которых в истекшем веке кажется едва ли уже не доведенной ad absurdum. Для сознания, настоянного на популярном манихействе голливудского толка и способного различать вещи лишь по черно-белому признаку, ужасы недавнего прошлого - известные на Западе под именем национал-социализма - заменены ценностями демократии и свободы мнения. Что названные ужасы, будучи состояниями сознания, могли быть в конце концов не заменены, а только видоизменены, об этом, в силу необходимости думать о вещах, а не просто говорить о них, не желают сегодня и знать. Но нежелание знать влияет на события не больше, чем нахождение под наркозом на ход хирургического вмешательства. Было бы нелепостью утверждать, что национал-социализм сегодня - это исторический призрак. Напротив, сегодня он актуален, как никогда, актуальнее даже, чем в пору своего оригинального господства. Вопреки ожиданию, время не сглаживает его, а укрупняет; журналисты, политики, писатели, теологи, бездельники с каждым днем говорят о нем так, как если бы время текло вспять и мы с каждым днем приближались к прошлому, а не отдалялись от него. При этом забывают лишь выяснить, где он, собственно, находится? Где его искать? Не в кучке же бритоголовых юнцов, которые, обезьянничая, позорят его во всех отношениях негативный, но абсолютно не смешной оригинал! И нечего ссылаться на социологически сконструированное и опрошенное большинство. Большинство опознается во все времена среди прочего и по тому, что оно проглядывает оригиналы и вдохновляется подделками. Если горланящим скинхедам вкупе с их интеллектуальными застрельщиками милостью public opinion (или, по Черчиллю, published opinion) вменяется в обязанность представлять современный национал-социализм, то рассчитывать здесь на эффект не менее потешно, чем ожидать от хлопушек и петард, взрываемых в новогоднюю ночь, эффекта массовой паники и спешной эвакуации города. Коротко и ясно: современный национал-социализм впору искать не в неуклюжих попытках реанимации разложившегося трупа, а в "юрском парке" его превращений. Когда сегодня в месте происшествия Берлин, как раз в эпицентре бывшего рейхстага и фантомной рейхсканцелярии, где в свое время раскатывались взрывы эндемической истерии при явлении некоего mortal god, ежегодно проводятся так называемые парады любви, во время которых у более чем миллиона подростков отключается их (виртуальное) сознание и подключается к пандемониуму сверхмощных усилителей, то только мошенничество или слабоумие откажутся опознать в нынешней форме этой dementia juvenilis метаморфозу вчерашней. Ибо сводить национал-социализм к массовым убийствам значит всё еще быть агитатором, а не интеллигентом (не путать с представителями интеллигенции). На такой лад он не только не объясняется, но и крайне примитивизируется, что, несомненно, идет в разрез с намерением агитаторов представить его этаким уникальным злом, не имеющим аналогов в истории. Чем же еще изобилует история со времен царя Гороха до Пол Пота, если не массовыми убийствами и злодеяниями! Уникальность национал-социализма, которую он благоговейно разделяет с русским первенцем своей музы, лежит, скорее, в философских корнях обоих; оба слепо вбирают в волю то, на что философы покушались только в мысли. Что философы, мыслящие абсолютное, лишь дразнили волю и подстрекали её к непредсказуемым поступкам, стало очевидным на трагическом примере обеих стран, демонстрирующих гетерогенность разумной, но безвольной "интеллигенции" (в перспективе её неизбежного нравственного вырождения, как об этом свидетельствует послевоенное и нынешнее немецкое и российское время) и волевого, но абсолютно неразумного "народа". Однажды на родине Фихте и Макса Штирнера должно было случиться случившееся: узурпация оставшегося вакантным немецкого Я слепой и магически направляемой волей. Решающее значение остается при этом не за заговоренным двенадцатилетием немецкой истории, а за его жизненным миром, силою которого (его неизменного присутствия) названная вакантность Я (вакуум Я) заполняется всё снова и снова, сообразно сценарию и особенностям лицедейства. Национал-социализм, как таковой, не может иметь иной альтернативы, чем сознательность, индивидуально вбираемую в волю. Если названная альтернатива не вступает в силу, то мы имеем лишь смену декораций и статистов при всё той же оскорбительно ясной, но не замечаемой большинством игре. Левые горлопаны справа и правые горлопаны слева могут лопаться в потугах взаимного очернения; разница между ними не бόльшая, чем во вкусе и в выборе - между Адольфом Гитлером и каким-нибудь боксером, кинозвездой или эстрадным певцом. Определяющим и примиряющим в том и другом случае остается то, что обе стороны в одинаковой степени хотят быть нокаутированными.
5.
Что лингвистический терроризм сыграл в структуре тоталитарных государств, типа большевистского или национал-социалистического, решающую роль, стало уже, кажется, общим местом. Число публикаций на эту тему растет изо дня в день. Любопытно лишь, что исследовательская зоркость оборачивается подчас слепотой, даже бесчувственностью, стоит только взору перенестись из прошлого в настоящее. Критики и аналитики злободневности напоминают в этом пункте классических филологов, которые хоть и умеют ценить всякого рода античных подонков, но считают ниже своего достоинства уделять внимание современной сволочи. Между тем, если наше время, в особенности последняя треть XX века, может быть охарактеризовано по какому-либо одному, но объемлющему признаку, то здесь пришлась бы кстати парафраза философски знаменитой метафоры: язык, как бездомность бытия. После того как современная философия на поминках по Дантовой Donna Filosofia пришла к выводу, что мыслить можно не иначе, как говоря; после того, стало быть, как коренные философские проблемы, от Гераклита до Гегеля, были объявлены болезнью языка, с обязательным курсом лечения, предусматривающим вытеснение мышления в дискурс и передачу полномочий первого последнему, тема Закат Европы ищется уже не в одной сенсационной и по-своему спорной книге, а в злобе дня. Что сохранилось от мышления, опущенного в щелочной раствор лингвистики, было даже не заменой: мыслю, следовательно существую, на: говорю, следовательно существую, а дальнейшим потенцированием этого картезианского эрзаца до утроенно онтологического argumentum ad hominem: существую, 1) ибо говорю, 2) ровно столько, сколько говорю, 3) чтό говорю. Тоталитаризм большевистского или национал-социалистического образца рубил собственный сук, полагая, что можно совместить культ личности с господством дискурса и даже подчинить дискурс точечным вдохновениям оратора. Между тем: если дискурс, как таковой, означает исчислимое и предвидимое, то личностное опознается как раз по своей непредсказуемости и спонтанности. Личностное и есть всегда лишь некий досадный осколок в безответной, как труп, простертости языкового континуума. Извлечение этого осколка удачнее всего запечатлено в оглашенной Фуко смерти человека: человек умирает, осознав, что, когда он говорит и, стало быть, существует, он говорит и существует не сам по себе, а милостью фундаментальных парадигм, в мощном дезинфекционном пространстве которых его воля и судьба длятся не дольше следов, оставляемых им на прибрежном песке. Эта смерть не имеет уже ничего общего с архаической и отхозяйничавшей смертью, наступление которой характеризуется, между прочим, и тем, что перестают говорить; новая смерть наступает как раз с говорением, есть говорение и трансцендентально возможна не иначе, как в непрерывности говорящегося. Очевидно, что первенцами этой смерти должны были стать "притворяющиеся непогибшими" философы, богословы, гуманисты, литераторы, журналисты и прочие интеллигентные говоруны. (Напротив, неумерших, в прежнем, индивидуально-различимом смысле слова, следовало бы поискать там, где личностное - в каких угодно формах и разведениях - осмеливается еще бросаться в глаза, стало быть там, где вообще не говорится, а если и говорится, то дискретно и при надобности: скажем, среди спортсменов, канатоходцев, глотателей ножей, кутюрье, топ-моделей, мошенников, бонвиванов, казанов, актеров, престолонаследников, мисс и мистер Вселенная и прочих homunculi из книги Гиннеса.) С устранением личностного вносится фундаментальная поправка и в сформулированную выше онтологию; теперь это называется не: существую, 1) ибо говорю, 2) поскольку говорю, 3) что говорю, но: существую, поскольку принуждаю других говорить о себе. В окончательной редакции: обо мне говорят, следовательно, я есмь. Соответственно: я есмь, чтό, как и сколько обо мне говорят. Пример: некто двуногий пользуется своими гражданскими правами, своим правом самореализации. Средь бела дня ему угодно реализовать себя, ну, скажем, как - художника. С этой целью он, первым делом, говорит себе: а я и есмь - художник. После чего он говорит это и другим. В-третьих, он изготовляет визитные карточки, на которых под его именем проставлено художник1 . В-четвертых, он раздает их повсюду и кому попало. Лишь после этого он приступает к делу: берет большой кусок белого полотна, изгаживает его сперва по всему набору нечистот, от мазков кисти до экскрементов, выплевывает на него свою жевательную резинку, растирает её острием носка, протыкает полотно ножом, вывешивает его на стене, приписывает название Make Love Not War и усаживается у двери в ожидании первых поклонниц и покупателей. - Не то, чтобы эта модель непременно сулила успех; человеческое общество равняется здесь пока еще на природу, которая, несмотря на провозглашенные права икры, всё-таки не до такой же степени либеральна, чтобы первая попавшаяся икринка всерьез рассчитывала стать рыбой. Но если случится, что проворные репортеры вынюхают новичка и станут превозносить его, - как знать, может он и дотянет сначала до местных премий, а там, гляди, и до мировых. Также и от смешного до великого всего лишь один, к тому же оплеванный шаг.
6.
Смерть человека, смоделированного профессиональными дрессировщиками прошлого, как-то: священниками, нравоучителями, наставниками, исповедниками, правозащитниками, вахтмейстерами, массовыми агитаторами, и как бы они ни назывались, оказалась, как ни странно, не просто концом, а лишь концом начала. Очевидно, с инаугурацией лингвистического абсолютизма началась новая эпоха: "после смерти человека". В ослепительно стерильном мире сигнификатов посмертный человек - это уже не прежнее непредсказуемое и по природе своей дивергентное существо, а аббревиатурный и дистанционно управляемый знак, включенный в некое множество флексибельных и контролируемых порядков (программ). Если в классической парадигме человека тон задавали всё еще чувства и прочие переживания, которым он - по языковой палитре, от банального до несказа?нного, - подыскивал имманентные слова, то в сегодняшней парадигме случай явлен, как говорится, с точностью до наоборот. Теперь тон задают уже не чувства и переживания, а слова, к которым, после того как они были сказаны, приходится подбирать чувства и переживания. Именно: не словам приличествует уже равняться на мысли и чувства, демонстрируя свою ущербность и беспомощность в их выражении, а мыслям и чувствам положено подлаживаться к словам и не выходить за пределы сказанного. Легко увидеть, что отправной пункт упирается как раз в выбор слов. Минимум слов гарантирует минимум чувств, соответственно минимум стрессовых состояний. Говорят: о'кей! и чувствуют себя о'кей; можно представить себе степень отчаяния миллионов людей, которых обрекли бы на немоту, отняв у них это волшебное слово. Образцовыми оказываются прежде всего политические термины. Говорят: демократия, если желают положительно воздействовать на настроения избирателей; другой раз, с целью негативной переориентации слушателей, говорят: популизм. Что оба слова означают одно и то же, мало кого волнует. Пробил час слабоумного, оспаривающего у Творца мира его Творение и уверенного, что он сделает всё "лучше". Было бы опрометчивым видеть в политической корректности просто набор курьезов, а не мегаломанию пуританского выродка, полагающего, что насаждаемому им повсюду раю как раз недостает райского языка, некой универсальной lingua postadamica, на которой могли бы изъясняться обитатели рая. Поучительным в этом эксперименте является, пожалуй, не его непреднамеренный и оттого столь обезоруживающе действующий идиотизм, а монументальность, с которой здесь бросается вызов Творению. Впервые со времен 1 Быт. 2-4 мы имеем дело с вызывающе новым и универсальным актом имятворчества, которое, по сути, хочет быть и есть не что иное, как переименование, а значит, и переоценка первозданных вещей. Судя по опросам и всяческим статистикам, две трети электората не прочь вменить в вину Творцу мира то, что в усилиях назвать вещи своим именами Он хватил через край и, так сказать, завинтил гайки, отчего вещи не только требуют бо?льших мыслительных усилий, чем это предусмотрено коэффициентом интеллектуальности, но и противоречат Конституции. Над чем же жаловались и что? во все времена упрекали в мире больше, чем непонятность самого мира? - Философская шутка, что непонятны не сами вещи, а только мысли о вещах, читай: слова о вещах, оказалась вдруг внесенной в университетские программы и возведенной в ранг эпохального открытия. Следствием её стала потребность в упрощении, инстинкт последовательного самооглупления как наиболее надежного гаранта понятности вещей и - возможности быть счастливым. Упрощение вещей есть сокращение слов. Прежде всего негативно заряженных слов, с устранением которых устраняются и негативные вещи; отношение к миру и судьбе определяется в таком случае дюжиной слов, функционирующих по типу: "Сезам, отворись!". Нужно лишь вслушаться однажды в эту подкорковую родную речь, после которой нет уже никакой надобности в изучении иностранных языков, разве что афроамериканского; "душа" откликается на неё с такой же безошибочностью инстинкта, с какой собака реагирует на командные окрики хозяина. "No problem!", "О'кей!", "Супер!" - вот некоторые парадигмы будущей интерлингва, по которой современный человек способен будет опознавать меру и апофеоз собственной человечности. Некий драгоценный образец этой языковой гигиены показательным образом берет свое начало в военной области и называется collateral damage (что-то вроде побочного ущерба, или попутных разрушений). Collateral damage - это лингвистическое слово-плева, некий лелеемый еще Оккамом verbum nullius linguae, из числа тех, которыми философы впечатляют простаков, а простаки других простаков. Подобно тому как физики отказываются обсуждать реальное содержание, скрывающееся, скажем, за терминами "волновой пакет" или "черная дыра", так и политики, вкупе с поддерживающими их гуманистами, обходят молчанием вопрос, а что же есть на деле collateral damage. Очевидно, что вопрос могли бы разрешить философы, указав на то, что денотатом collateral damage являются вовсе не (наивно-реалистически) разорванные в клочья или обугленные человеческие тела, а то, что оно означает, именно: издержки, мелочи, брак, импондерабилии миротворчества, без которых так же невозможно обойтись при насаждении рая, как без синяков в борьбе за мяч у ворот противника. - Забивая гол, форвард трижды был сбит с ног, сам сбил с ног судью, засадил защитнику ногой в промежность, раздробил, принимая мяч головой, вратарю передние зубы и отреагировал непристойными телодвижениями на вой болельщиков. Да, но какой гол! - (Postscriptum после 11 сентября 2001 года: накануне дня Дрездена Америки по всему Нью-Йорку были развешены плакаты нового боевика с ужасающими террористическими актами и - happy end. Аннулированный до греческих календ фильм носил название Collateral damage.)
7.
Еще раз: врожденный идиотизм корректности не должен смущать. Только её преждевременностью можно объяснить шокирующее действие, которое она производит на незрелые умы. Между тем, она лишь дистиллят уже сегодня прорезывающейся речи; в ней нет ничего, что не было бы взято из повседневного языка, а главное, из образа жизни западного человека, и если последний всё еще потешается по инерции над ней, то оттого, пожалуй, что он даже мысленно не дорос еще до своей цели и не способен представить себе своего будущего совершенства. Вопрос в том, как именно или чем именно воспринимают этот язык будущего - ушами, сросшимися с уокменом, или ушами, избалованными, скажем, Шекспиром и оттого никак не переучиваемыми? Можно проверить реакцию на следующих образцах: в будущем идиотиконе идиоток и идиотов это будет называться уже не short person (в случае человека с коротким ростом), a vertically challenged (что-то вроде вертикально озабоченного или того, кому брошен вертикальный вызов). Вместо (клинического) кретин вынуждены будут говорить: differently abled (альтернативно одаренный), в то время как магазинным ворам будут предпочтены нетрадиционные покупатели (unusual shoppers). Что уже сейчас характерно в этих games альтернативно одаренных, при всех насмешках традиционно-одаренных, так это, пожалуй, необратимость, с каковой они вырождаются в реальное. В этом виде?нии некоего бастардного будущего, знамения которого множатся изо дня в день, язык присваивает себе, наконец, компетенции, которые в обратимые (старые добрые) времена числились единственно по ведомству спецслужб. В едином евгеническом процессе лингвистической корректуры Творения реальность распадается, с одной стороны на политически дезинфицированные слова, с другой стороны на слова диссидентствующие, иначе: на сверхслова? и недослова?; в итоге, повсеместно искореняемый расизм изгоняется как раз расистскими средствами, причем этой рафинированной форме расизма угодно выдавать себя (как раз антонимически) за антирасизм. Языковой континуум уподобляется некоему заповеднику, или охотничьему угодью, оснащенному высокотехнологическими средствами для ловли и отстрела стаи нелояльных или даже нелегальных, криминализированных слов. Едва ли кто-нибудь рискнет сегодня на скорую руку утверждать возможность некой глобальной - планетарной - системы прослушивания (по типу оруэлловских телескринов). С другой стороны, очевидна ущербность и уже существующей системы. Прибор, способный узнавать индицированные слова и брать говорящего на мушку, может, с технической точки зрения, быть бесконечно совершенствуемым. Тем досаднее бросается в глаза его коренной, метафизический, так сказать, дефект. Он может реагировать только на запрограмированные образцы, а не на асимметричные нюансы и оттенки. Слова отлавливаются лишь по их лексическим уликам; между тем: за сплошными словами не слышно языка, который, между прочим, может же быть и "эзоповым", когда говорящий из хитрости заменяет микроэлектронно узнаваемые слова синонимами или даже метафразами. Этот недостаток является хоть и серьезным, но никак не неустранимым. Бывалые скептики могли бы помянуть Гёделя и с пеной у рта доказывать несводимость человеческой психики к прецизионным инструментам. Без сомнения. Тем очевиднее, напротив, напрашивается обратная возможность, именно: адаптация не инструментов к психике, а психики к инструментам. Если инструменты не способны отлавливать "эзопово" в языке, то не инструменты следует совершенствовать (куда еще!), а язык делать более инструментальным. В мире откорректированных басен Эзопу и в голову не придет послать Ксанфа "выпить море". Язык регламентируется не случайностями вдохновения, а опционными оговорками программ. В качестве пробы можно будет исследовать возможности соматического приспособления, скажем, на термометре, который сначала устанавливал бы температуру тела по собственной заданной программе, а потом, но и только потом, показывал бы её на теле. С психикой дело должно обстоять гораздо легче. Психика всегда была полигоном суггестий, и опознавала в себе только то, что вкладывала в неё психология. Не то, чтобы западному обывателю так и не терпелось улалакать своего отца и уложить в постель свою матушку, но после того как ему внушили это домашние психоаналитики, он поверил в это с такой же непреложностью, с какой верил в свое происхождение от обезьяны. Психика упряма и надежна только у психов; нормальные люди обладают ею в той мере, в какой она прописана психотерапевтом или руководствами по снятию стрессов. Если, стало быть, причина срыва совершенной техники лежит в умных, находчивых, просто непредсказуемых клиентах, которые, говоря словами, говорят не слова, а против слов, ну и что же из того! Придется тогда браковать не приборы, сворачивая программу будущего, а скорее уж самих умников. Человек, как животное, изготовляющее орудия (a tool making animal), принадлежит в наше время к мифологии. Сегодня правильно говорят об орудиях, когда видят в них оригиналы, по образу и подобию которых изготовляется человек: человекобудильник, человекотелефон, человекосканнер, человекочип, обретающий заодно и смысл своего существования - в случае названной системы прослушивания ровно в той мере, в какой этого требуют стандартно-технические параметры приборов. Нынешнее, выдрессированное на love parades и talk shows поколение достигло уже сегодня уровня, который вынуждает иных либералов требовать наряду с правами человека прав и для обезьян, крыс или свиней. "Нет никаких разумных оснований считать, что человеческое существо обладает особыми правами. Крыса - это и свинья, и собака, и подросток. Все они - млекопитающие". Так судит об этом госпожа Ингрид Ньюкирк, основательница организации People for the Ethical Treatment of Animals. Важно лишь не проглядеть, чтобы названный "подросток" рос именно среди крыс, свиней и псов. Тогда он и станет "подростком" будущего, без подпольных непредсказуемостей Достоевского. Требуемый здесь дневной рацион говорения насчитывает с несколько дюжин вокабул, состоящих приблизительно на три четвери из ублюдочных слов, междометий, повторов и тому подобного.
2. Salus ex Judaeis est?
1.
Среди всех слов, рейтинг которых в табели о рангах современного языка достиг рекордовых отметок, слову еврейство принадлежит почти трансцендентное значение. Семантическое магнитное поле этого слова излучает такую силу, что представляется уместным говорить об искривлении общеязыкового пространства - в том же точно смысле, в каком это делает физико-математик. Стоит лишь какому-либо другому, нейтральному или даже гетерономному, слову оказаться в сфере его воздействия, как оно приобретает совсем иной, чтобы не сказать неузнаваемый, вид и просвечивает значениями, которые раньше не заподозрила бы и не обнаружила в нем ни одна синонимика. Всё выглядит так, как если бы одно единственное слово бросило вызов языку и вынудило его к самообороне, даже и не скрывая своего намерения сделать язык лишь в той мере нормативным и вменяемым, в какой он позволяет эксплицировать себя в его присутствии. Напряжение, вносимое этим присутствием, уникально во всех отношениях; можно было бы сказать, что старая дилемма между добром и злом, как и уже едва ли не весь нынешний миропорядок, меняются на глазах по мере приближения к хтонической энергетике этого слова. Но тем самым упраздняется сама возможность непредвзятого подхода к теме; никто, приди ему сегодня в голову размышлять на тему еврейства, не станет строить себе иллюзий объективности, делая вид, будто ему не известно, чем он собственно рискует. А рискует он, между прочим, умом, которому надо вдруг решать относительно своего "быть или не быть": или быть, но тогда с диагнозом "антисемитский", или, если без диагноза, то и вовсе не быть. Еврейский парадокс - парадокс интеллектуализма, который не может не быть, так как без него не было бы и самого еврейства, но и не может быть, так как с ним оно вовлеклось бы в стихию самоотрицания. Если бы шанс быть верно понятым хоть на йоту опережал путающиеся под ногами недоразумения, можно было бы сказать, что интеллект (интеллект - не познание вещи, а её подгонка под дискурс) означает здесь метафизически то же, что кровь - физически. Интеллектуал, безразлично: сионист или антисемит, воплощает тем самым (если и не как "представление", то уж наверняка как "волю") еврейство per se. Очевидно, именно здесь следовало бы искать объяснение того недоказуемого, но и неоспоримого "факта", что евреев больше, чем их есть. Евреем являешься дважды: один раз как еврей, другой раз и как интеллектуал. Как интеллектуал, еврей может и должен понять, что, пугая интеллект жупелом антисемитизма, он рискует и сам оказаться антисемитом. Конечно, политика упрощения всегда имеет на своей стороне большинство. Кто мало думает, дольше живет! И всё же рано или поздно придется ощутить на себе эффект бумеранга, если уж до такой степени упрощают интеллект, что идентифицируют малейшую волю к непредвзятости в анализе еврейского вопроса с антисемитизмом, как таковым.
2.
Первофеномен еврейства обнаруживает себя как реляция. Иудейство различают по его осознанному и поволенному отношению к юдаизму. Особой судьбой "избранного народа", в котором, как в никакой другом народе, присутствовала воля достичь не индивидуального, а именно народного бессмертия, было: метафизически полностью изойти в физическом, но так, чтобы отсутствие автономной метафизики полностью компенсировалось мистикой телесного. Люциферической роскоши греков и уже позднее христиан: изживать духовное в отрыве от телесного и даже в конфликте с телесным, евреи никогда не могли ни понять, ни тем более себе позволить. Их заботы были заботами не Платона, а Иова. Иов - если и не идеал иудейского, то во всяком случае его прообраз - метафизик плоти. На Иове, этом Прото-Фаусте из земли Уц, Творец мира вычерчивает, пожалуй, самые непроницаемые складки человеческой души, освобождающейся от своей плотяности и учащейся бестелесно изживаться в телесном. Увиденный так, случай Иова оказывается некой феноменологической редукцией sui generis: от "естественной установки" его доксической убогости ("Похули Бога и умри!") до чисто идеируемого эйдоса покаяния и благословенности. Иов - это, пожалуй, первое свидетельство человеческого, осознающего себя как неадекватность, именно: неадекватность реакции; человек в Иове проходит испытание на человечность, учась вытеснять биологическое слюновыделение асимметричностью моральной фантазии. Эту разность, различность, несоизмеримость культурных физиогномий мы воспринимаем и на параллельно возникающей аттической трагедии, отличающейся от своего иудейского подобия просто иначе направленным вектором смысла: там душа испытует на себе возможность унять свою неразумную или даже бессмысленную судьбу эстетически, чарами Аполлона; здесь, пораженная проказою от подошвы ноги по самое темя, она учится, между прочим, благоговейно замирать перед неисповедимостью своей судьбы. Обе - иудейская, как и греческая - параллели слагают совокупность позднеантичной, в перспективе европейской культуры; решающим (и фатальным) для последней остается её бинарный и диспаратный характер, заостренная несовместимость её врожденных господствующих способностей, где Иову так же мало дано оттачивать у Платона силу своей мыслительности, как Платону учиться у Иова дару стоять "на коленях сердца". Возникает вопрос, а могут ли вообще скреститься эти линии? Идеи, лишенные телесности и оттого обреченные на (призрачную) бессмертность, и смертные тела, если и жаждущие бессмертия, то не иначе, как телесного. Другими словами, можно ли, и если да, то как, когда и где представить себе человека, дух которого не витал бы как призрак вокруг его плоти, а был бы её жизнью? Что христианство (исторически) коренится как в иудействе, так и в язычестве, не вызывает сомнений. Гораздо менее очевидно то, что оно (астрально) предшествует обоим, порождая их как свою историю и свое становление. Эту увиденную истину духовной науки энергично предвосхитил еще Шеллинг2 в следующих словах: "Евреи были избранным народом, поскольку они понимали Христа уже в пришествии и даже как бы уже пришедшим. Не оттого родился среди них Христос, что они были избранным народом, а оттого, что Он был уже в них. [...] Иудейство существовало только потому, что должно было существовать христианство. Поэтому, чтобы понять иудейство, нужно прежде увидеть христианство". Мысль Шеллинга в равной степени относится и к гречеству, в котором уже и древние отцы видели латентное христианство (Гераклит, Сократ и Платон - христиане до Христа). Христианству предстояло свести оба полюса к их исконному единству, скажем так: явить идейную роскошь Платона на гноящейся плоти Иова. Если христианству и удалось вообще что-либо, то никак не это: исторический христианин - это некий называющий себя христианином гермафродит, языческий персонализм которого иррационально дополняется семитской соборностью. Гётевский вопрос на засыпку: "Кто же нынче христианин, каким его хотел бы иметь Христос?" 3 , лишь подводил черту под этим всемирно-историческим срывом. Для нас сама возможность такого вопроса (слух улавливает его, задолго до Гёте, еще у христианских изгоев, от Юлиана до puer Apuliae, швабского Фредерико II) оттого не лишена интереса, что здесь, пожалуй, впервые завязывается узел еврейско-немецкой судьбы. Иов, разочарованный греческими друзьями идей, которые могли воздавать должное идеальному бытию не иначе, чем отворачиваясь от мира становящегося, испытует свою любознательность у немецких мейстеров; экзистенциалист Иов учится у немецких мейстеров не замуровывать свой исключительный опыт в стене плача, ни тем более облекать его в гипс или мрамор (некий еврейский Лаокон sui generis), а сущностно идеировать его. Эпиграф к Иову - абсолютно антигреческий - проставлен отныне у Мейстера Экхарта: "Ибо и Бог становится и преходит" 4 . Еще раз Экхарт5 : "Страдание - быстрейший зверь, доносящий нас до совершенства"; нельзя отделаться от дивинаторского искуса подвести проблему Иова под мерцающий свет, падающий на неё из позднейшего бёме-шеллинговского "темного начала Бога". Заключительный акт ("Препояшь, как муж, чресла твои; Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне") выглядит уже как некая элементарная theosophia deutsch. В Нюрнберге 1945 не нашлось ни малейшей воли узреть в одиозном антисемитизме "узурпаторов немецкой совести" (Карл Баллмер) лишь изнанку германофобии. Ведь только эти два народа - в отцах-учредителях Иове и Мейстере Экхарте - связаны одинаковой судьбой: быть ненавидимыми именно как народы.
3.
Иудейство, ориентирующееся на юдаизм, характеризует еврейский народ, как таковой, в его преемственности и непрерывности. Приверженность к Торе с её культивированной и проверенной в тысячелетиях системой кровных совместительств, прежде же всего необыкновенная закрытость и как бы трансцендентность жизненного уклада, перед которым чужой при любых обстоятельствах должен чувствовать свою чуждость, - всё это свидетельствует о некой этноврожденной неартистичности и инстинктивной неспособности к античному carpe diem. Иудейство, как никакой другой этнос, - серьезно; еврейский юмор - это никогда не юмор висельника или просто жизнелюба и балагура, а некое удвоение серьезности; еврей шутит не для того, чтобы отвлечься от серьезности, а чтобы сильнее привлечься к ней: когда, скажем, серьезность притупляется и воспринимается не с должной серьезностью; иначе: он шутит, чтобы было не до шуток. Серьезность иудейства - его судьба между ассимиляцией себя и ассимиляцией в себя. Если чужой, очутившийся в греческом культурном пространстве, ощущал себя и был чужим именно по языку (Овидий: "Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli"), то отчуждение в еврейском жизненном пространстве выглядело несравненно сложнее. Стать греком значило участвовать в греческой культуре, то есть, прежде всего уметь говорить и мыслить по-гречески. В сравнении с этим, с этой придуманной и продуманной предпосылкой, стать евреем - сегодня, как и три тысячи лет назад, - значит стать некой "вещью в себе". Если греческая идентичность гарантируется культурой, то еврейская определяется единственно религией. "Мы являемся, - говорит Авраам Иошуа Хешель, - уникальным примером народа, отождествленного с религией". Оттого значение понятия "еврей" измеряется не только обычными этническими критериями, как, скажем, в случае "француза" или "испанца", но исключительно по признаку религиозного, совпадающего с демотическим. "Еврей", по понятию, означает вовсе не то же, что "француз" или "испанец"; мы должны были бы, по существу, говорить: "франкохристианин" или "испанохристианин", чтобы найти более соответствующую параллель к "еврею". Оттого есть французские евреи, испанские евреи, русские евреи, но нет еврейских французов, еврейских испанцев, еврейских русских. Этническая принадлежность совпадает с религией уже и по знаку слова; еврей, заполняющий анкету, пишет одно и то же в графе национальность (на послевоенном немецком это называется: подданство) и в графе религия. Взаимная зависимость той и другой лучше всего проясняется на старой парадигме души и тела, а именно таким образом, что юдаизм (религия) есть тело, в котором иудейство (национальность) обитает как душа. Можно лишь догадываться, сколь нелепой, если не извращенной, выглядит старая орфическо-платоническая апофтегма soma-sema (тело, как гроб души) в еврейском восприятии; еврейское тело - не гроб, а отчий дом души, её синагога, что означает: бренная душа живет здесь лишь телом, в теле, милостью тела, которое - бессмертно. Следует при этом помнить, что под телом имеется в виду никак не habeas corpus вот этого вот одного человека, а народное тело, в ощутимой непрерывности которого отдельные тела граждан так же объединяются в тысячелетиях, как чувственные восприятия в трансцендентальной апперцепции кантовского механизма познания. Юдаизм, как тело иудейства, олицетворяет тем самым еврейское Я, или еврейскую идентичность. Характерно, что эта религия, несмотря на свой подчеркнутый национальный характер, имеет значимость мировой религии - факт, который по сравнению с другими мировыми религиями, не мотивируется ни с качественной, ни с количественной стороны. Мировая религия означает здесь не безродное и метафизическое самообретение в человечестве (христианство), ни даже в-себе-замкнутое обретение себя в своем Боге (ислам); юдаизм хочет относиться к миру, как дрожжи к тесту: "There will be по humanity without Israel", так гласит это еще и сегодня в устах выдающегося раввина и профессора Авраама Иошуа Хешеля. Воля к выживанию, являющаяся в случае любого другого народа биологической необходимостью, оказывается в еврейском случае необходимостью экуменической и католической: еврей выживает не индивидуально, а народно, потому что его народ репрезентирует человечество. - Здесь и обнаруживается своеобразие и как бы необратимость ассимиляции: чем труднее для еврея стать неевреем (в силу ставшей кровью и плотью религиозности, которая ipso facto утверждается не метафизически, а абсолютно физически, телесно-физически), тем легче и беспрепятственнее может, напротив, нееврей, которому заказан экзистенциальный доступ к еврейскому, эссенциально (= интеллектуально, культурно) стать евреем. Через это, по-видимому, и объясняется упомянутая выше двойная оптика, по которой евреев в мире больше, чем их есть. Иудейство, осознающее и формирующее себя в юдаизме, представляет собой, поэтому, некую сеть изоляторов в гетерогенных культурных пространствах. Понятие гетто, которому после 1945 года принадлежит видное место в списке криминализированных понятий и о котором нельзя уже, очевидно, не только говорить, но и молчать, так как, говоря о нем, впадают в антисемитизм, а не говоря, этот же антисемитизм замалчивают, оказывается лишь исконным и, прежде всего, добровольным понятием еврейской оседлости, неким становищем еврейства в самой сердцевине чуждого мира, в котором оно умудряется жить, не живя в нем. При этом сами пространственно организованные гетто, как и еврейские кладбища или еврейские кварталы, являются лишь архитектоническим выражением еврейского первофеномена: гетто - это как раз урбанистический символ души, в огражденности которой и под протекцией которой тело сохраняет свою неприкосновенность. Тем невыносимее вызвучивается диссонанс, когда к названной тенденции присоединяется другая: попытка обрести себя за пределами гетто. С новым человеком Павла (Кол. 3,11), который "обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея [...], но всё и во всем Христос", еврейство стоит перед испытанием, от которого зависит его судьба, а вместе с ней и судьба мира. Еврейская судьба явлена здесь расщелиной между иудейством, как юдаизированной волей, и иудейством, как секуляризированным представлением. Иными словами: между Израилем, как религией, и Израилем, как нацией.
4.
Некий хасидский мастер определяет еврейский грех: "Величайший грех еврея - забыть, что он царский сын". Мы читаем тавтологичнее: "Величайший грех еврея - забыть, что он еврей". После походов Александра, этого первого всемирно-исторического синопсиса региональных культур, выясняется, что быть евреем означает: проблему. Проблемой называется (с Платона и присно) modus vivendi идеи, её мы слетело, по-христиански: жало в плоти, - соответственно: еврейская проблема совпадает с самого начала с идеей еврейства, как такового. Люциферически-метафизическим льготам греков, как и позднего христианского Запада, противопоставлены здесь заботы экзистенциальные; в позднем антиплатонизме Сартра, где экзистенция предшествует эссенции, явлены скорее всего лишь метафизически осмысленные осадки "жизненного мира" еврейства. Если инстинкт самосохранения у других народов осуществлялся преимущественно через традицию, историю, нравы и обычаи, короче, через верность прошлому, то стоило лишь традиции поблекнуть, а нравам и обычаям привлекать внимание лишь этнологов, как инстинкт этот неизбежно ослабевал и притуплялся. Характерная черта еврейского инстинкта самосохранения выражается, напротив, в том, что этот последний не обнаруживает ни малейшей тоски по прошлому, а всегда соотнесен с настоящим. Культа прошлого, силою которого другие народы влачат своё фантомное существование, препоручая своё настоящее музейным гидам, здесь нет и в помине; еврейское прошлое - это не совершенное прошедшее, отданное на милость туристам, а просто-напросто прошедшее в настоящем. Если, таким образом, реальность прочих давних народов, то, что заставляло бы считаться с ними и сегодня, состоит из минувших дней, спиритически вызываемых в настоящем, то еврейское настоящее есть непрерывное осознание себя в своей отождествленности с прошлым, некое перманентно осовремениваемое прошлое, стало быть не воспоминание из настоящего о бывшем, а ежемгновенное утверждение бывшего в настоящем и как настоящее. По этой причине еврей не говорит: "Когда Моисей вывел наших предков..."; он говорит: "Когда Моисей вывел нас..." Ибо гарантией перманентности оказывается здесь, как отмечено, не (абстрактный) дух, а (непрерывно ревитализирующее себя) народное тело. Тщательность и филигранность, с которой это народное тело тысячелетиями выделывалось раввинами, позволяет mutatis mutandis сравнить себя, пожалуй, только с техникой средневековых докторов при шлифовке логических понятий; раввин - это схоласт тела, которое он тематизирует не менее старательно, чем схоласт свои amplius, adhuc, item, praeteria и т.п. Вопросы, сколько ангелов уместились бы на кончике иглы, или: сколько гребцов было в лодке Улисса в такой-то песне Одиссеи, образуют некое логологическое подобие талмудических наставлений ad hoc: скажем, относительно условий, при которых можно, соответственно, нельзя совокупляться или, скажем, ковырять в носу - в том и другом случае на потеху мирянам и профанам. Достаточно лишь сравнить эту интравертную, шокирующую, лунатическую физиологию со ставшей общим местом сверхтрезвостью еврейского интеллекта, чтобы очутиться лицом к лицу с причудливым парадоксом, в котором лишенный корней, скептический, иссохший в рассудочности дух уживается с тертуллиановски абсурдной мистикой плоти. Еврейский оптимум и первофеномен обнаруживается, таким образом, не в присутствии духа, а, скорее, в присутствии тела, где телу придается такое же трансцендентально универсальное значение, что и духу в арабски (аверроистски) разведенной мысли Запада.
5.
Если, таким образом, величайшим грехом, на который вообще способен еврей, является забыть свое царское, читай: еврейское происхождение, то спасение от греха может лежать в некой телесно усвоенной и усовершенствованной мнемонике, при которой исключалась бы сама возможность утраты памяти об иудейском генезисе (берешит). Очевидно, что подобная изолированность и эксклюзивность, лишенная к тому же (со времен Адриана до 1948 года) всякой возможности быть пространственно локализованной - еврейское чудо: ubi sum, ibi Israeli (где я, там Израиль!) - никак не могла навлечь на себя легкую судьбу. Антисемитизм, с которым в настоящее время может соперничать разве что ненависть к немецкому, следует повсюду за еврейством словно тень, то в форме эндемических взрывов ненависти толпы, то в образованных головах всякого рода местечковых массовых подстрекателей. В антисемитизме заслуживает внимания не столько то, что? он сам по себе есть (его "сам-по-себе" полностью выдыхается уже в префиксе "анти"), сколько то, как именно он воспринимается и используется своими отрицателями. Что антисемитизм в настоящее время выступает, как правило, в качестве пугала, которого остерегаются больше, чем того, что он отпугивает, свидетельствует лишь о первобытно-примитивном и поздне-декадентском характере нашего времени. Количество граждан, способных по слову антисемитизм определять степень своих нервных срывов, растет изо дня в день. При этом на придурковатый антисемитизм бритоголовых показательным образом реагируют рассчетливее, даже снисходительнее, чем на требование видеть в нем проблему, которую следовало бы не заглушать рыком, а брать умом. Бедные перевоспитанные немцы, столь единодушно ненавидящие себя в заколдованном круге своей двенадцатилетней любви к Гитлеру, не могут, даже будучи антропософами, преодолеть посленаркозный паралич и справиться с проблемой Гитлер, не впадая в истерику. Нужно лишь обратить внимание на шум, не смолкающий в антропософской периодике в связи с рядом высказываний Рудольфа Штейнера о еврействе. 6 Будущим историкам придется, без сомнения, ломать себе голову и над этой разновидностью легендарной германской верности, именно: над смысловым вывертом, что евреев в нынешней Германии любят столь же невменяемо, как их ненавидели в эпоху национал-социализма. Что вокруг темы еврейства шумят как раз интеллектуалы, более чем понятно. Им не терпится быть больше евреями, чем сами евреи, хотя они и знают, что к столу их всё равно не пустят, разве что в прихожую... Вопрос формулируется иначе, пусть несколько неожиданно, но имманентно: а способен ли интеллигентный еврей испытать благодарность при чтении заклеветанной антропософскими и прочими интеллектуалами статьи Штейнера "Тоска евреев по Палестине". В конце концов ведь не только же sub Jove frigido воздается должное дельфийскому оракулу Познай самого себя, но и в Иерусалиме!
6.
"Еврейский вопрос" освещается не блуждающими огоньками одного немецкого мифа XX столетия, а светом НЕМЕЦКОГО ДУХА. Только так может, наконец, быть положен конец этому взбесившемуся дискурсу под именем антисемитизм. Если номиналистически эвоцируемый и семиотически опекаемый антисемитизм post rem играет роль нечистой силы еврейства, то антисемитизм ante rem, стало быть не как номен, а как реальность, есть необходимость еврейства. Подобно тому как теологический Бог Библии не может обойтись без Супостата, так и еврейство не способно существовать без юдофобии. Сказанное, безусловно, имело бы больше видов если не на понимание, то хотя бы на относительно сдержанный прием, будь сказавший это сам евреем. Но, с другой стороны, если никому не хочется быть сказавшим это евреем, то отчего бы не стать им как раз нееврею!... Феномен еврейской самоненависти хорошо известен. Отчего бы не рассчитывать и на еврейское самопознание! Если еврей познает себя как еврея, то познает он себя наверняка не как еврей. Там, где познаваемый - еврей, познающий - никто: лессинговский "Ich bin dieser Niemand", ни эллин, ни иудей, а наблюдатель, способный наблюдать и исследовать еврейство - всё равно, в себе самом или в ком угодно - sine ira et studio. Скажем, на примере следующего пробного пассажа: Si l'antisemitisme п'existait pas, il faudrait l'inventer (если бы антисемитизма не существовало, следовало бы его выдумать). Именно: выдумывают себе ненавистника, за отсутствием любящего. Ненависть, хоть и тягостна, но перспективна; в Адольфе Гитлере, соединившем в немецкой душе два абсолютно не-немецких понятия, национализм и социализм (оба французского происхождения), перспектива эта превзошла все ожидания; если Гитлер и по сей день гипостазируется как абсолютное зло, то, очевидно, не из теологических или прочих теоретических соображений, а как (всё еще!) беспроигрышная карта в игре за мир. Враждебность мира вовсе не страшна, если, конечно, заранее отнять мир у непредсказуемых харизматиков и отдать его на милость либералам; тогда враждебность можно даже пустить в оборот, выжимая её до самой точки, после которой она не годится даже для устрашения малолетних. Недавняя перебранка вокруг сдержанно умного намека поэта Мартина Вальзера ("инструментализация зла" 7 ), остается памятной именно как симптом, на котором лишний раз убеждаешься в правоте замечания Жозефа де Местра, что деликатность чаще наносит делу больший вред, чем неосторожность8 . Возмущение, вызванное вальзеровской речью, покоилось в конце концов на недоразумении. В намерения poeta laureatus никак не входило каким-то образом противостоять еврейству; напротив: что им (сознательно или подсознательно) двигало, так это, скорее, стремление прозелита чище, а главное искреннее послужить делу. (Поэт Вальзер не упускает повода напомнить о себе, как о первом немце, трансцендентализировавшем Освенцим, что хоть и верно, но не совсем честно, раз уж поэт Вальзер не перестал после Освенцима писать стихи.) Романтик Освенцима обличает брокеров Освенцима, призывая изгнать их, торгующих, из храма, что значит: исконно еврейская проблема решается на исконно германский лад - так, романтический католик Лютер запротестовал однажды против инструментализации таинств и стал протестантом, к вящей злобе "римского клуба"; что же удивительного, если Вальзеру по-лютеровски захотелось стать бόльшим католиком, чем папа! Инструментализированное зло (Освенцим) не недостаток, а лишь некое фактическое a priori, которым замазывается действительный недостаток. Можно проверить это на старом ренановском правиле: "Наиболее энергичное средство понять значимость какой-либо идеи, это устранить её и показать, чем мир сделался без неё". 9 Итак: мы устраняем антисемитизм из еврейского мира и видим, что? от этого мира тогда остается. В то время как оболваненные либерализмом европейские народы горят желанием упразднить национальное во имя человеческого; в то время как названные народы во имя этой возвышенной цели не брезгуют никакими средствами, ни даже поощрением свального греха и содомии, евреи остаются единственным народом, способным блюсти верность себе, своему прошлому и будущему. Необратимость антисемитизма оказывается, таким образом, условием его вступления в силу; антисемит сегодня - это тот, кто относится к еврейским святыням так же, как и к своим собственным. Когда в Нью-Йорке на выставке современного искусства выставляется образ Божьей Матери, изгаженной слоновьими экскрементами (католику Джулиани так и не удалось запретить показ гадости, нашедшей страстную защитницу в лице либеральной дамы Х.Клинтон); когда в немецком Хейльбронне инсценируется американская пьеса под названием "Поцелуй Иуды", в которой предательство Иуды интерпретируется как ревность гомосексуалиста (некая мусульманская община пригрозила режиссеру смертью, если он не откажется от постановки, оскорбляющей пророка Ису); когда против всей этой мерзости там и сям повышают голос, то протестующие автоматически зачисляются в ряды недобитых нацистских свиней. Написал же однажды остроумный автор "Еврейского парадокса", что верность - это нацистское понятие10 . Любая верность, кроме, разумеется, верности святыне Холокоста. С этой святыней шутить нельзя, хотя свирепость, с которой она культивируется, в скором времени начнет лопаться анекдотами. Совсем как в случае Ленина, столетней годовщиной которого в свое время переелись до такой степени, что ничто уже не могло остановить хронические отрыжки всенародного анекдототворчества. - Аккуратность, с которой старая Европа проводит свою деевропеизацию и ipso facto африканизацию, не в последнюю очередь коренится в недостатке защитной реакции; если потомкам В. фон Гумбольдта или доктора Ливингстона нечего уже дать своим черным собратьям, то тем похвальнее выглядят их старания уподобиться им вплоть до внешнего вида. В конце концов антисемитизм - это факт, и лишь как таковой он есть и теория. В чем факт единственно нуждается, так это не в том, чтобы быть объясненным, того менее интерпретированным, а - быть увиденным. Но видеть факты значит, правильно их расставлять. Фактом является, что государство Израиль было зачато в Базеле 29 августа 1897 года. Фактом является и то, что оно увидело свет 14 мая 1948 года в Тель Авиве. Оба эти факта лишь в том случае слагаются в первофеномен, если от взора не ускользает третий промежуточный факт: беременность и родовые схватки, вызванные родовспомогательным вмешательством акушера по имени Адольф Гитлер.
7.
Еще раз: "еврейский вопрос" - это выбор между юдаизированным еврейством и еврейством секуляризированным. То, что вопрос этот обернулся "еврейским парадоксом", образует некий узел, который - сегодня это режет глаз больше, чем когда-либо, - не может быть ни распутан, ни разрублен. Очевидным образом еврейский парадокс сегодня - это уже не расовый парадокс оставшихся чистыми полукровок, а парадокс еврейского государства. Парадокс Агасфера, получившего вид на жительство; остается лишь вспомнить старую еврейскую поговорку: "Кто не верит в чудеса, тот не реалист", и - вопреки двум тысячелетиям непреодолимо центробежной судьбы - отдать должное сжатому кулаку государства Израиль, этому чуду сионизма. С тех пор чудотворцы вынуждены ограждать себя от исполненных ненависти братьев, требующих от них того же, что сами они раньше требовали у мира, и забрасывающих камнями их творение; любопытно, что читателям Библии не хочет прийти в голову сравнение с юным интифадистом Давидом, который пращею и камнем поражает Филистимлянина! - Возникновение сионизма, как и его небывалый успех в эпоху мировых войн и "осуществимых утопий", относится к наиболее значительным парадигмам политической теологии, в которой политика рассматривается и практикуется уже не как искусство возможного, а, скорее, как искусство невозможного. Значение Герцля для еврейства сравнимо со значением Лойолы для католицизма: в опасную пору распада и разложения жизненных миров обоих. В том и другом случае речь идет о реанимации: один раз опустившегося и погрязшего в языческом дерьме христианства, другой раз распадающегося и рискующего утратить свою народную идентичность еврейства. (Характерно, что оба раза надувать меха в этой игре довелось как раз немцам.) Сионизм - реванш еврейства, его романтизм и опоздавшая на тысячелетия юность. Это - мечтательство практиков, химера здравомыслящих. Трезвые и взвешенные современники смеялись над сновидцем Герцлем, пытающимся реализовать невозможное. Невозможное Герцля - мир, в котором мы живем. Даже не столько об основании государства Израиль приходится думать, говоря о достижениях сионизма, сколько о некоем паравертебральном чувстве опасности, которого сегодня едва ли может избежать тот, кто - безразлично, как именно, - высказывается на еврейскую тему. Евреи, бывшие всегда в опасности, в разгар либерализма сами стали опасностью! История Творения делится на две эры: до Освенцима и после него. Последней предпосылают затем, как некое мотто, призыв одного интеллектуала, так и не усвоенный поэтом Вальзером: "Никаких стихов после Освенцима!" Отчего же только стихов? Отчего и не мыслей? Допустив, что мысль: "Никаких мыслей после Освенцима!", могла бы сама оказаться никакой... Освенцим - the Unthinkable: нечто не уплотняемое ни в стихи, ни в мысли, абсолютная несказа?нность, аналоги которой можно было бы искать в апофатическом богословии, или в гностической Плероме, или в каббалистическом Энсофе, или уже в немецко-мифическом Ungrund. В абсолютно релятивизированном мире современности, где любая другая святыня может быть опоганена со ссылкой на свободу мнения и право на творчество, этот абсолют предстает абсолютом как таковым. Освенцим - единственный санктуарий, которому не должно угрожать никакое святотатство. Вера в Освенцим - единственное, что способно еще предохранить деморализованную публику Запада от окончательного нигилизма. Мы присутствуем при инаугурации новой мировой религии, затеняющей прежние и присваивающей себе право на иммунитет против всякого рода freedom и frivolity современности. Что при этом особенно бросается в глаза, так это темпы, которыми здесь за считанные годы осуществляется то, что иначе потребовало бы столетий, если не тысячелетий. Освенцим - хронотоп, в котором весна веры уживается с осенью скепсиса. Нужно будет представить себе по аналогии христианскую одновременность Вольтера и св. Франциска, крестовых походов и салонов, целибата и венчания в церкви однополых пар, чтобы быть готовым к всякого рода неожиданностям и в этом случае. Романтическая природа сионизма обнаруживается уже в том, что он не в состоянии контролировать последствия своего вдохновения. Увлеченность, с которой антисемитизм разоблачается даже там, где им и не пахнет, напоминает увлеченность психоаналитика, видящего во всех вещах замаскированные гениталии. Следовало бы помнить, что религия - это никогда не только-религия, но всегда и ересь, кощунство, гетеродоксия, атеизм. Оттого уже в самом начале обращения в шоа Запада здесь то и дело появляются кощунники и ересиархи, которые осмеливаются усомниться в чуде или даже отрицать его. Их, правда, не сжигают и не четвертуют, а лишь выгоняют с работы или сажают в тюрьму; так или иначе, но невозможно не увидеть здесь рекапитуляцию религиозных практик. Напрашиваются параллели с разложением христианства, вплоть до торговли индульгенциями. Индульгенция, этот поздний шедевр креативного католицизма, есть лишь либерализация и тем самым как бы рыночная легализация греха, так сказать, маркетинг греха; достаточно вспомнить технику, с которой у виновных стран (включая Швейцарию) изымались и до сих пор изымаются миллиарды откупных, чтобы понять тревогу некой части еврейской интеллигенции, которая, обеспокоенная ростом shoa-business, предостерегает от курьезов и обратных эффектов. Случай М.Вальзера относится как раз сюда. Не без основания страшатся и в этом случае непредсказуемых фокусов кустарно-коммерческой креативности, не ведающей, как известно, иных святынь, кроме тех, из которых выжимаются деньги. Главное, внушает нам мистер Money-love из пуританской утопии Беньяна11 , быть религиозным, а для этого годятся любые средства - в частности (или как раз вообще) стать богатым. После того как однажды (один пример из сотен) добрые христиане сочли возможным наслаждаться вином, от одной этикетки которого они испытывали уже легкое христианское опьянение: Lacrimae Christi, что может помешать находчивым евреям, да и уже кому угодно, производить и продавать, скажем, пудру марки: Ash of Holocaust? Под прикрытием, так сказать, старого бонмо: всё может быть, потому что всё уже бывало.
8.
Salus exjudaeis est? Очевидно, что со сменой времен меняются и опасности, которым подвержены времена. Если истекшее столетие еще в первой своей половине страдало от излишка истории, то позже, очнувшись после клинической смерти в реанимационном блоке США, оно страдает исторической недостаточностью. Опасность Европы, которая еще у Ницше диагностицировалась как "вред истории", называется сегодня: идущее из Америки распоряжение о finis historiae. Представление отменяется, актеры забыли роли! Это еще только начало, когда потомки Гердера оповещают о своей unlimited solidarity с Америкой; конец наступит тогда, когда они научатся понимать, с кем они, собственно, солидаризировались. Что Америка - это не этнос, а, скорее, этос, некая экранизация библейских эпизодов глазами пуритан, всё больше и больше становится общим местом. Подобно тому как роком старой просветительской Франции было навязывать миру Pax Britannica, даже и там, где она противостояла этому "миру" (трагическая судьба Наполеона, насаждавшего, по Шпенглеру, "французскою кровью английскую идею на континенте"), судьбой и предназначением Соединенных Штатов Америки является глобальная карикатуризация иудейской избранности под опознавательным знаком American Dream. Американец, носящий майки с надписью "Proud to be an American", не был бы столь смешон, играй он собственную посредственность, а не пародируй он чужого величия. Величие Америки - величие её каскадеров. Но размахом затрат на комбинированные съемки Апокалипсиса едва ли удастся скрыть дурной мелодраматический вкус, настоянный на "Унесенных ветром" и Чарли Чаплине. Американец - это дезертир какой угодно национальности, мечтающий стать евреем, каковым он, за молодостью лет, никогда так и не станет. Скорее уж иной еврей станет американцем, но тогда это будет впавший в детство еврей... Они способны еще смести с лица земли полмира, взрывая атомные и какие угодно бомбы, но нелепость их положения в том, что никто при этом не будет принимать их всерьез. Когда недавно духовный лидер талибанов предложил решить конфликт не военными действиями, а один на один с Бушем и Блэром (все трое с автоматами Калашникова), ему, по-видимому, и в голову не приходило, насколько стилистически аккуратен этот вариант решения проблемы. Молчание обоих западных вождей стояло под знаком "молчания ягнят"; куда адекватнее было бы отреагировать на выходку сумасшедшего муллы согласием, при условии что местом поединка оказался бы один из съемочных павильонов Голливуда. Откуда же было знать не читавшему книги The End of History мулле, что в историю нынче можно попасть не иначе, как в съемочном павильоне! В этом и состоит единственный шанс Америки - прекратить историю за неумением чувствовать себя в истории. Если американец нелеп в истории и велик в экранизации истории, то его прагматическое чутье подсказывает ему единственно верное решение: умещать не свою нелепость в истории, а историю в своем величии. Больше того, заставить всех понимать под историей то, что свершается не как судьба, а как роль, о которой после можно узнать из прессы, насколько она удалась. "Сегодня я веду бой, - признается генерал, главный герой фильма "Буря в пустыне", - а завтра узнаю из новостей CNN, выиграл ли я его или проиграл". Этот бой Америка будет вести до тех пор, пока даже умным людям ни станет ясно, что других боев уже нет и не может быть. Человек будущего узнается, между прочим, уже и сейчас не по хорошему или плохому, а единственно по американскому настроению. Музыкантская шутка, согласно которой публика в зале делится на три группы: тех, кто кашляет во время концерта, тех, кто не кашляет, и американцев, наверняка перестанет в скором времени быть шуткой. Американцы и в самом деле внушают миру (даже после предупреждения богини Клио 11 сентября 2001 года), что кашлять, как и не кашлять, можно было еще в истории, тогда как после истории никому не остается уже иного выбора, как быть американцем. Нет ничего удивительного, что конец истории провозглашается в стране, где история толком даже еще и не начиналась, но, с другой стороны, было бы опрометчиво интерпретировать эту суггестию как очередную отрыжку пресыщенного общества развлечений, а не как столп его истеблишмента. Конец истории равнозначен потере чувства истории. Старый мольеровский простак, не знавший, что он всю жизнь говорил прозой, уступает место своему американскому двойнику, не знающему, да и не желающему знать, что он живет в истории. (Молодой солдат, прослуживший несколько лет на американской военной базе недалеко от Мюнхена, не знал, что он находится в Germany.) Если Европа преклоняется сегодня перед Америкой, то оттого лишь, что именно Америка стала идеальным полигоном и триумфом её пораженческих теорий, от женевского цыгана Руссо до кёнигсбергского китайца Канта. Разве случайно воодушевление, с которым сегодня говорят о Канте; даже зеленый министр иностранных дел Германии (он прославился, как молодой человек, тем, что буянил на улицах и поколотил однажды полицейского) сказал, что нынешняя объединенная Европа - Кантово детище. Увы! Европа чествует Канта, в то время как со дня на день растет количество европейцев, которые хоть и знают, что началось новое тысячелетие, но не совсем уверены, какое именно. ("Кто станет миллионером?" - в российской версии, кажется, "О, счастливчик!": - тот, у кого при вопросе, в какое тысячелетие мы вступили, не пробежит мороз по коже.) - За отсутствием мужчин, делающих историю (Трейчке), рассказываются истории. Рассказчики - репортеры и вуаёры, которых за последние войны погибло едва ли не больше, чем солдат. Смерти какой-нибудь случающейся с кем попало принцессы, или кашлю её любимого мопса, или очередной случке какого-то еще эстрадного мутанта уделяется сегодня больше внимания, чем иному путчу или даже переделу мира. Государственные мужи почитают за милость пожать руку футболистам, а прыгающие по сцене и визжащие обезьяны посвящаются в рыцари и величаются "сэрами"... "Пора смириться, сёр!" - Стресс, этот отец погибели западного мира, олицетворяет сегодня всё, в чем сохранились еще признаки жизни и истории, и оттого в борьбе со стрессом протекает нынешняя фаза западного слабоумия. Стресс - это вовсе не война, революция, голод, террор, судьба; стресс - это когда вам звонят во время сиесты или когда опаздывает прислуга... Присяжным историкам не остается ничего другого, как еще глубже зарыться в прошлое и существовать милостью умерших; лишь те, кто умеет бодрствовать и во сне, навостряют уши при номинации конца истории, чтобы не упустить внезапностей, которыми разгневанная история в самый разгар её упразднения дает о себе знать. Ибо либерализм и демократия подлежат сегодня ведению уже не историка, а исключительно демонолога. На что они, пожалуй, еще годятся, так это на то, чтобы раздражать и доводить до бешенства других бесов, которые тем свирепее тоскуют по вчерашней изнанке вещей, чем бешенее культивируется сегодняшняя изнанка. Видящему это не поможет уже ничто, кроме знания, или даже догадки, что Дух, не старый гегелевский Дух, которого так легко было спутать с одним героическим всадником, а новый, еще не узнанный, ввиду тупика, грозящего Творению, прибегает к хитрости упразднения Себя из мира, чтобы продемонстрировать одуревшим двуногим, чем мир сделался без Него. Одним словом: еще остаются евреи, современники пророков и Иова, на которых и мог бы рассчитывать Дух в своей хитрости. Желая быть реалистами, мы верим-таки в чудо: в то, что расслабленный европеец расчихается-таки в самый торжественный миг поминок по себе. Хотя слово: вы - соль земли, и относится ко всем сынам Земли, но евреи, кажется, и здесь составляют исключение, которому рассудительный Эмиль Людвиг подыскал однажды несколько драстическую формулу: "Я хоть и не считаю евреев солью земли; но наверняка они являются перцем Европы".
Базель, 16 октября 2000 года
Примечания:
1. Что этот воображаемый пример вполне реален и даже по-своему незатейлив, не вызывает сомнений. Мне доводилось видеть и более внушительные карточки: на одной стояло, например, эзотерик, на другой - это было в швейцарском Дорнахе - апокалиптик.
2. Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Bd.l, Meiner, Hamburg 1992, S. 398f.
3. Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller, München 1950, S. 71.
4. Meister Eckhart, Schriften jena 1938, S. 133.
5. Ibid., S. 50.
6. Особенно в статье 1897 года "Тоска евреев по Палестине" (Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte, Dornach 1989, S.196ff.), в связи с призывами Герцля и Нордау к созданию еврейского государства. Статья заканчивается словами: "Сионистское движение - враг еврейства. Лучше всего было бы, если бы евреи внимательнее пригляделись к людям, которые малюют им призраки".
7. Имеется в виду речь, произнесенная им 11 октября 1998 года во франкфуртской церкви св. Павла в связи с присуждением ему премии мира немецкой книжной торговой палаты. Одной из тем выступления был искусственно вызываемый ажиотаж вокруг Холокоста, названный "инструментализацией зла". Сидевший в первом ряду тогдашний председатель еврейской общины в Германии Игнац Бубис счел нужным демонстративно заснуть при этих словах. Проснувшись, он обвинил оратора в антисемитизме и призвал его извиниться за сказанное.
8. Lettres choisies de Joseph de Maistre, Lyon 1910, p. 97.
9. Dialogues et fragments philosophiques, Paris s. a., p. XII.
10. "Может ли мужчина иметь жену и любовницу и быть верным обеим, или же он должен пожертвовать одной ради другой? Это нацистское понятие безоговорочной верности одному единственному делу - в данном случае [? ] великогерманской империи, - ради которого каждый гражданин должен предавать свою семью, своих друзей и свою религию, восходит к Гегелю и глубоко антидемократично". Nahum Goldmann, Das judische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Hamburg 1992, S. 118f.
11. The Pilgrim's Progress, Boston 1969, p. 158-59.