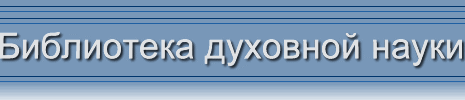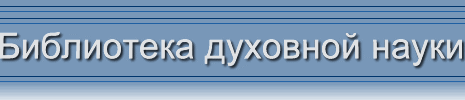В форме антиутопии в книге дан один из значительнейших прогнозов развития нашей эпохи. Часть его уже осуществилась в истекшем столетии. Не ожидает ли цивилизацию в веке текущем его впечатляющее завершение? При новой публикации сочинения К.С.Мережковского в нем опущен ряд глав приложения. Это сделано для того, чтобы не утомлять читателя отвлеченными размышлениями и сберечь силу его воображения для восприятия главного.
В старом издании в оглавление включена "Легенда о Великом Инквизиторе" Достоевского, но не опубликована. В новом издании мы сочли целесообразным ту оплошность поправить. "Легенда" включена в приложение, и читатель имеет непосредственную возможность сделать определенные поучительные сравнения.(Г. А. Бондарев)
Более подробно об этом произведении и об авторе см. Г.А. Бондарев "От антиутопии к реальному апокалипсису"
Сказка-утопия XXVII века
Содержание:
Предисловие автора День первый День второй Приложение: Ф. М. Достоевский "Великий инквизитор" Предисловие автора
Автор, печатая свое сочинение, рассчитывает обыкновенно на успех его среди своих читателей в смысле более или менее значительного влияния, которое оно окажет на умы своих современников, надеется иногда на прямую пользу, которую оно им принесет.
Я в этом отношении составляю исключение. Я думаю, что сочинение мое для моих современников не может иметь никакого значения, что мысли, в нем выраженные, не будут разделены ни одним из читателей, а если и будут, то это не приведет и не может привести ни к каким практическим результатам. Мысли эти - преждевременны и в данную эпоху совершенно неприменимы.
Но не то в отдаленном будущем. Я думаю, что если человечество будет продолжать идти по тому же пути, по которому оно идет, то скоро, скорее, может быть, чем я предположил в своей сказке, оно дойдет до абсурда, то есть доведет усложнение и трудность жизни до такой степени, что люди, наконец, придут в состояние полного отчаяния.* Тогда-то они, быть может, вспомнят мою сказку-утопию, прочтут ее и, возможно, найдут в ней некоторые указания, как выйти из этого состояния отчаяния. Тогда-то, но не раньше, книга эта может принести свой плод, может оказаться действительно полезной, и для этой- то более или менее отдаленной эпохи я ее и предназначаю; теперь же - это не более как курьез.
| * Уже и теперь можно видеть некоторые, пока еще слабые признаки подобного отчаяния, ибо что, как не проявление его представляет нам пессимизм высших классов, анархизм низших и самоубийства, с такой поразительной быстротой увеличивающиеся в числе во всех классах. |
Я не рассчитываю даже на внешний успех этой книги, во- первых, потому что идеи, в ней высказанные, покажутся теперешним людям слишком странными и необычными, да и не в моде теперь проповедовать подобные идеи, а во-вторых, потому что они выражены, к сожалению, недостаточно талантливо, без той силы, яркости и красоты, с какими я желал бы их видеть выраженными. Это не совсем удачно выкристаллизовавшийся кристалл, хотя, как мне кажется, из хорошего, ценного материала. И эта ценность материала заставляет меня думать, что если бы какой-нибудь писатель с большим талантом взялся изобразить то же самое, что изображено мною, то сочинение, подобное этому, имело бы значительный внешний успех даже и в настоящее время.
Сознавая, таким образом, многие недостатки этого сочинения, я однако позволю себе указать и на одно его достоинство - это глубокая искренность и непосредственность всего, что в нем высказано; мысли, здесь приведенные, все глубоко продуманы и прочувствованы мною, они не вычитаны из книг и не вымучены, а вылились сами собою из сокровенных тайников моего сердца и ума. Я вообще мало читал по вопросам, затронутым здесь; прежде - по недостатку времени, позднее - намеренно, чтобы не засорять мозги, и это, как мне кажется, оказалось в данном случае более полезным, чем вредным, придав моему сочинению печать оригинальности и самобытности. Конечно, это не исключает случаев совпадения некоторых моих мыслей с ранее высказанными другими; ведь иные мысли, так сказать, носятся в воздухе, подобно микробам, и от них, как и от последних, не уйдешь.
И на одно такое совпадение, странное и удивительное, я позволю себе обратить особенное внимание читателя.
По причинам личного свойства я не читал романа Достоевского "Братья Карамазовы" и вовсе не был с ним знаком, когда писал настоящее свое сочинение; но, уже вполне закончив эту работу, даже переписав ее начисто, я совершенно случайно прочел в одном журнале критическую статью, разбиравшую этот роман. В этом разборе приведена была одна выписка из романа, поразившая меня до глубины души своим замечательным совпадением с моей сказкой. Если отбросить некоторые религиозные мысли, в ней заключающиеся, то окажется, что на пространстве одной-двух страниц Достоевский выразил почти все главнейшие, основные положения моей утопии и иногда почти теми же самыми фразами, теми же словами.*
| * В интересах читателя я не привожу здесь выписки из романа Достоевского, о которой идет речь, а прилагаю ее в конце книги, дабы читатель познакомился с ней уже после того, как прочтет мою сказку. |
Я мало склонен к мистицизму, по природе я более всего скептик, но, признаюсь, когда я прочел это место, то меня охватил какой-то мистический ужас; мне показалось это чем-то сверхъестественным, мне представилось, что дух Достоевского, войдя в меня, заставил меня развить его мысли в только что написанной сказке. И это как будто подтверждалось самим процессом, каким она у меня появилась: подобно какой-то лавине, подобно неудержимому потоку вылились высказанные в ней мысли, предстали передо мною изображенные в ней картины с необыкновенной яркостью и рельефностью, и все эти мысли, все эти картины, вылившиеся из каких-то неведомых внутренних тайников моего ума и воображения, выступили в моем сознании с поразительной быстротой, в течение каких-нибудь двух-трех часов, совершенно помимо моей воли, полусознательно, цепляясь друг за друга, вызывая одна другую. И вдруг, о ужас! - такое совпадение. Впечатление было так сильно, ужас так велик, что я даже разрыдался. И только вспомнив еще более странное совпадение еще более сложных мыслей, одновременно появившихся в уме Дарвина и Уэллеса, я успокоился: как там, так и тут это могло быть делом простого случая и не требовало вмешательства таинственных мистических сил. Но, как и там, совпадение это кажется мне многознаменательным: значит, тут близка истина. И истина эта заключается в том, что человечество само неспособно управлять своими делами на земле; устройство его дел земных, устройство его земного благополучия должно быть передано в руки отдельных лиц. Нижеприводимая схема пояснит мою мысль.
Возможны три системы организации человечества :
1. Когда каждый зависит от самого себя - это индивидуализм;
2. Когда каждый зависит от всех - это социализм;
3. Когда все зависят от немногих - это патернализм.
Но индивидуализм оказался полной неудачей: когда каждый заботится только о самом себе, то в результате получается, что всем худо. И такой же неудачей окажется, без сомнения, социализм, ибо все не могут стать хорошими (разве только через 10, или 20, или 50 тысяч лет), если же каждый будет зависеть от нехороших, то всем будет нехорошо. И человечество, если только не желает, чтобы оно продолжало страдать в течение еще десятков тысяч лет (может быть и вечно,) должно быть приведено к системе патернализма. Немногие могут быть хорошими даже и теперь, а если все будут зависеть от немногих хороших, то каждому будет хорошо. И в одном смысле настоящее сочинение может быть рассматриваемо как проект установления системы патернализма.
Сочинение мое может, конечно, дать обильную пищу для критики. Но чтобы читатель мог правильно судить о нем и чтобы не давать ему повода к лишним недоразумениям, полезно будет изложить здесь вкратце то миросозерцание, вокруг которого группируются мысли и взгляды, проповедуемые мною как в сказке, так и в послесловии к ней. Миросозерцание это до сих пор не имело клички, не имело имени, а между тем люди любят клички. Пусть же оно носит название - терризма.
Что такое терризм? Это, прежде всего, убеждение, что люди, обитатели земли, - Terra - имеют право и не только нраво, но и обязанность (обязанность, налагаемую как разумом, логикой, так и чувством - состраданием к людям) интересоваться и заниматься исключительно земными делами, предоставляя обитателям неба - если таковые есть - ведаться с делами небесными. Не смешным ли показалось бы вам, если бы жители земли, пренебрегая своими собственными интересами, все внимание свое, все заботы свои, все помышления обратили на планету Марс и ее обитателей, если бы интересы обитателей Марса лежали к их сердцу ближе, чем интересы людские? А между тем на деле так это часто и происходит, с той только разницей, что объектом внимания людей является не планета Марс, а Небо - в сущности, столь же отдаленное от нас, как и Марс, если не более, и еще менее нам знакомое. И это большое зло: сколько усилий ума, воображения, чувства, сколько человеческой энергии, и притом людей по большей части из числа лучших, наиболее возвышенных, было потрачено на дела воображаемые, на интересы небесные в ущерб делам земным, реальным. Если бы все эти усилия были направлены на наши собственные, людские дела, на устройство нашего земного благополучия, то, право, наша жизнь здесь, на земле была бы легче, чем она есть теперь!
Итак, террист, прежде всего, не забывает, что он обитатель Земли, и старается забыть, что есть на свете еще другие планеты: Марс, Меркурий, Небо и проч. и проч. Теперь, говорит он, - Земля и ее интересы, а там, если есть еще что-нибудь, - видно будет, что делать.
Далее, так как земля есть планета по преимуществу материальная и обитатели ее - люди - тоже по преимуществу существа материальные, то террист не считает нужным пренебрегать или даже презирать материю и предпочитать дух в ущерб материи. Он считает логичными и разумным подчиниться таким специальным условиям земного существования, и вместо того чтобы идти против них и тратить энергию на подавление этих условий, он будет стараться устроить дела земные согласно и в соответствии с ними. Смешно и неразумно было бы все усилия напрягать на то, чтобы жизнь на земле устроить в соответствии с условиями, например, Марса, или жизнь на Марсе устроить в соответствии с условиями Земли; точно так же неразумно стремиться устраивать дела земные в соответствии с условиями неба или брать людей не такими, какие они есть, а стараться превратить их в обитателей неба - духов. Царству духа не место на земле. Пусть дух, если он есть, царит в своем месте - на небе и не мешает людям на материальной Земле быть материальными людьми.
Поклонник неба, целист, как его можно было бы назвать от слова coelum - небо, стремится, живя на земле, к небу и старается перетащить туда всех людей. Террист старается перетащить небо на землю, то есть устроить рай на земле.
Террист смотрит на вселенную с единственно ему доступной обсерватории - с земли; целист смотрит на землю (не без презрения), взобравшись на небо - в сущности, только воображаемое.
Террист говорит: миллионы и миллионы сознательных и чувствующих существ - людей - существуют на земле, и они будут существовать сотни, тысячи, десятки тысяч столетий вперед, и они могут существовать счастливо, наслаждаясь бытием, или страдая и мучаясь. Вот факт, столь реальный, столь несомненный, что перед ним бледнеют все более или менее туманные теории и гипотезы религиозные и метафизические; и, в то же время, факт столь грандиозный, столь важный, столь душу захватывающий, что все внимание людей, способных обнять его умом и чувством во всех его размерах, должно невольно сосредоточиться на нем и только на нем. На целиста этот факт не производит почти никакого впечатления, он его почти не замечает, игнорирует его, как нечто маловажное сравнительно с небом.
Терризм не следует однако смешивать с так называемым "грубым" материализмом. Материалист, как "грубый", так и не грубый, конечно, естественный террист, ибо он неба не признает; но терристом можно быть, будучи в то же время и теистом, и пантеистом, и буддистом или теософом. Можно верить и в существование личного Бога, и в загробное существование, можно верить и в бесчисленный ряд перевоплощений, и в то же время желать, и находить нужным, и принимать меры, чтобы временное существование на Земле, для чего бы оно ни было предназначено, не было рядом горестей и печалей, а чтобы это был рай земной, в котором люди вместо того, чтобы грубеть душой и ожесточаться сердцем, как теперь, имели бы возможность, напротив, смягчать свои сердца в благоуханной атмосфере светлого счастья, безоблачной радости, дабы после смерти они явились не с истерзанной от страданий душой, а с улыбкой на устах, существами чистыми, невинными, наивными, способными жить счастливо и при иных условиях. Только жесткие, бессердечные изуверы, думающие, что совершенствование человеческой природы возможно путем мучений, с равнодушием, иногда даже с радостью взирающие на корчи телесные и душевные, думая в своем нравственном извращении, что это для блага людей, желающие поэтому как можно более мучений, чтобы как можно более их совершенствовать, только такие кровожадные фанатики не могут быть терристами. Но это враги человечества, и это люди невменяемые, ибо они явно страдают нравственным умопомешательством.
Самыми же естественными последователями терризма являются скептики: допуская возможность всяких религиозных и метафизических учений, они не видят достаточных доказательств ни чтобы отбросить их, ни, еще менее, чтобы принять их. Не будучи, таким образом, уверенными в существовании неба и совершенно не зная, как там, если оно есть, они, естественно, будут направлять все свое внимание на землю и ее интересы.
Терризм теперь не в моде. Но это миросозерцание так логично, так разумно, так естественно, то есть так соответствует природе человека, что я глубоко убежден, что оно есть миросозерцание будущего. И люди войдут в него через врата скептицизма.
Человек в древние времена был существом материальным, но в то же время он был цельным существом, чувствовавшим себя в равновесии. Теперь, вот уже скоро 2000 лет как он стал раздвоенным существом, в теории стремясь к одухотворению, на практике оставаясь тем же материальным существом, как и раньше. И это раздвоение, как всегда, сопровождается рядом страданий, массой недоразумений и ставит его нередко в тяжелые, трагические, а иногда трагикомические положения. Человек потерял теперь чувство равновесия, он мечется между недостижимым, противным его природе одухотворением и осуждаемой, но милой ему материей, он тужит, скорбит, борется, падает и, падая, горько плачет. Человека со времен христианства можно уподобить доброму католику, который ест каждую среду и пятницу бифштекс, тяжело мучаясь всякий раз совестью и расстраивая этим свое пищеварение. И настоящая сказка-утопия является проектом освобождения человечества от этого глупого и мучительного состояния, от этого ненужного гнета, проектом устроить жизнь так, чтобы человек мог спокойно и безнаказанно есть бифштекс ежедневно, не терзая себя угрызениями совести. И в этом смысле моя утопия появляется под знаменем освобождения человечества от гнета духа и реабилитации материи, ее ренессанса.
Два слова еще о причине, почему я напечатал свое сочинение за границей. Хотя я не думаю, чтобы цензура запретила печатание его в России (не так уж она строга, особенно когда дело не касается современных, житейских вопросов), тем не менее, очень возможно, что цензор нашел бы нужным вычеркнуть какое-нибудь место, какую-нибудь фразу, которыми я, может быть, особенно дорожу, и это было бы мне очень больно. Я люблю свою сказку, как свое родное детище, это теперь даже почти единственная моя привязанность на земле, после того как я все на ней потерял, и на членовредительство этого дорого мне детища я смотрел бы с особенной грустью, с особенным прискорбием. Пусть же оно живет в мире за границей и читается теми немногими лицами, которым оно попадется там на глаза. О его большом распространении я ведь не забочусь.
В заключение я считаю необходимым обратить внимание читателя на то, что "стерилизатор", являющийся таким важным фактором в моей сказке, не есть продукт моего воображения, а, по-видимому, может считаться действительным фактом. Я слыхал, по крайней мере, что недавно изобретены жидкости, обладающие свойствами, которые я придал стерилизатору в своей сказке. Но если бы он и не был открыт, то его необходимо найти и, нашедши, хранить в тайне. Это великая сила, и кто знает, для чего она может пригодиться человечеству; делать же такую силу достоянием массы - неблагоразумно.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Кто не будет как дитя,
тот не войдет в царство Божье.
Иисус Христос
... Но вот еще и еще одно усилие, и, наконец, я окончательно отказался от борьбы с волнами, чувствуя, что эта борьба бесцельна, бесполезна, и что нет более спасения. И тотчас же, как только я принял это решение, все, что оставалось во мне энергии, сразу покинуло меня, все мускулы, до того страшно напряженные, вдруг ослабли, и я почувствовал себя совершенно обессиленным. Я помню хорошо, что это-то именно решение перестать бороться более всего тогда меня и испугало, ибо я ясно сознавал, что ничто в мире уже более не в силах заставить меня отменить его, а без этого - мне не спастись. Тут только почувствовал я, что все кончено, и невыразимый страх овладел мною. Закрывши рот и задерживая дыхание, чтобы не захлебнуться сразу, со смертельной тоской на сердце я стал погружаться в воду.
О ужас! Вот она, эта страшная смерть, о которой я столько раз думал, которую я часто старался себе представить, вот она смотрит мне теперь прямо в глаза, - и насколько она страшнее в действительности, чем в воображении!
Я захлебнулся уже раз ... сознание стало затуманиваться ... Вдруг огненной струей пронеслась в моем сознании вся моя жизнь со всеми мельчайшими, давно забытыми событиями, со всеми радостями и восторгами, горестями и страданиями ... я начинал терять сознание ... Но вот новая волна подхватила меня, подняла на поверхность и вновь куда-то увлекла; я уже задыхался, но, воспользовавшись этим мгновением, еще раз втянул в себя воздух. О, какое это было наслаждение! В ту же минуту меня обо что-то ударило, а руки, беспомощно висевшие, дотронулись до чего-то пушистого: то были водоросли, прикрепленные к камню, о который меня ударило. Скорее инстинктивно, чем сознательно уцепился я за эти водоросли, и тут во мне вновь проснулась энергия и жажда спастись. Ощупав скалу и найдя на ней выступ, я ухватился за него и, напрягая все, что осталось во мне силы, подталкиваемый вновь нахлынувшей волной, я вскарабкался на камень и беспомощно растянулся на нем.
Несколько минут пролежал я без мыслей и чувств; но затем вспомнил вдруг весь ужас, все отчаяние только что пережитых мгновений, и мне показалось все это чем-то таким бесконечно обидным, таким несправедливо жестоким, что я истерически разрыдался.
Но действительность быстро меня отрезвила: волна окатила меня с ног до головы, и, видя, что мое положение небезопасно, что меня может смыть с камня, я пополз дальше, и только почувствовав под собой траву, лег совершенно успокоенный и тотчас же заснул, как убитый.
Глава I
Я проспал, должно быть, часа два или три. К утру стало свежеть, ветер еще не совсем утих, и так как платье мое было совершенно мокро, то я сильно продрог и проснулся от чувства холода. Я почувствовал себя физически совершенно разбитым, все члены мои болели от непомерной борьбы, которую мне пришлось выдержать недавно, но несмотря на это, дух мой от сознания, что я избегнул такой ужасной смерти, был преисполнен бодрости, я почувствовал себя каким-то обновленным, и мир казался мне вдвое милее, чем прежде. Несколько секунд пролежал я в этом радостном состоянии, в этом сладостном сознании, что я жив, но затем быстро вскочил, желая согреться ходьбой и поскорее узнать, куда я попал.
Начинало чуть-чуть светать, и в полусумраке утра я мог различить неясные еще очертания берега, на котором я лежал, камней на нем, подальше деревьев, кое-где грациозные силуэты пальм и еще далее - довольно большую бухту с берегами, переходящими в песчаную отмель. Сумрак, впрочем, быстро исчезал, и я, поднявшись на некрутой берег, скорым шагом пошел вдоль него, по направлению к замеченной мною вдали бухте, пробираясь между негустой здесь порослью. Зарево зари скоро осветило небо со стороны моря, и я мог теперь совершенно уже ясно различать все предметы. Осматриваясь кругом, я заметил в нескольких сотнях шагов впереди меня, недалеко от бухты, среди рощи пальм и деревьев что-то белеющее, как бы палатки. Подозревая, что это какое-нибудь человеческое жилище, я направился туда, но не зная, буду ли иметь дело с врагом или нет, стал пробираться с осторожностью, стараясь не делать лишнего шума и скрываясь в кустах, все более и более сгущавшихся. Скоро не осталось никакого сомнения, что то была действительно группа палаток, целый лагерь, но какой странный и какой красивый, совсем не похожий на военный лагерь.
Он был расположен саженях в ста от берега моря, образовавшего здесь довольно большую бухту, в которую впадала небольшая речка или, вернее, ручеек, огибавший лагерь со стороны, противоположной той, на которой я находился. С трех сторон лагерь был окружен густой растительностью, среди которой я и скрылся, осторожно выглядывая из-за кустов.
Палатки, разбросанные в беспорядке между деревьями и кустами, как бы утопали в зелени; и какое это было разнообразие форм, какое богатство оттенков зелени! - целый пышный пир зелени! Огромные раскидистые деревья с оригинальными пластинчатыми корнями, точно змеи, извивавшимися по земле, наклоняли свои могучие ветви над палатками, оставляя между собою полные таинственной темноты промежутки, образуя как бы своды, из-под которых там и сям яркими красками сверкали какие-то чужеядные растения, приросшие к ветвям, местами облепляя их сплошь, подобно мху. С ветвей деревьев спускались живописными гирляндами лианы, разнообразные вьющиеся растения с большими яркими цветами, перекидываясь с дерева на дерево, переплетаясь, спускаясь на землю толстыми канатами. На первом плане, впереди деревьев, частью скрывая их стволы, росли более низкие кустарные растения, то легкие, грациозные, с нежными листьями и тонкими ветвями, то с тяжелыми, массивными формами листвы, иные сплошь усеянные цветами. Цветы росли также в изобилии вокруг самих палаток, как бы нарочно здесь рассаженные, и из этих естественных, а может быть, и искусственных клумб, то вдруг возвышались группы широколиственных бананов, резко выделяясь своей яркой зеленью и громадными листьями, или кудрявые драцены со своими длинными, извилистыми, как змеи, стволами, то нежно ласкали взор тонко разрезные изящные листья пальм самых разнообразных сортов. Местами виднелись черные стволы древовидного папоротника с роскошной короной своих бесконечно нежных, как кружево, листьев. За палатками тянулся густой тропический лес, из-за которого вырисовывались прихотливыми зигзагами очертания гор, местами подымавшихся отвесными обрывами. Вся эта картина, оживляемая пением многочисленных птичек, ярко оперенных, красных, зеленых, пестрых, весело порхавших среди зелени, производила самое чарующее впечатление и гораздо более напоминала богато убранный сад, чем военный лагерь. Какой-то поэтической феерией, каким-то сказочным миром волшебниц веяло от всего, что представилось моему очарованному взору Передо мною стояла красавица тропическая природа во всей своей дивной наготе!
Сами палатки мало гармонировали с представлением о военном лагере; только немногие из них были белые, большая же часть их сделана была из какой-то блестящей, по-видимому шелковой, материи, разнообразно и красиво окрашенной. Их было много, около 40 или 50, и кроме одной - центральной, очень большой и высокой, - все были маленькие и низенькие. Хотя палатки, наполовину скрытые обильной растительностью, и были разбросаны по опушке леса без всякого видимого порядка, но в целом они образовали из себя довольно правильный полукруг, впереди которого расстилалась большая ровная, тщательно вычищенная площадка, и на ней там и сям росли высокие мелколистные деревья и несколько стройных пальм, бросавшие лишь легкую полутень на землю. Площадка эта со стороны, противоположной лесу, постепенно понижаясь, переходила в песчаную отмель бухты.
Пока я любовался этой картиной, полной невыразимой красоты и изящества, солнце успело взойти и придать ей еще более оживленный и жизнерадостный вид.
Вдруг я вздрогнул. Среди полной тишины, нарушаемой только щебетанием птичек и нежным плеском моря, раздался громкий могучий аккорд, за ним другой, третий, - и полились чудные звуки какого-то гимна; какой-то симфонии, торжественные, величественные. Звуки эти исходили, очевидно, из большого оркестра, но сколько я ни оглядывался, - нигде я не мог заметить музыкантов, игравших с замечательною тонкостью и артистичностью.
В лагере, между тем, очевидно, проснулись. У входа в палатки кое-где стали показываться люди; придерживая одной рукой полог палатки, а другой заслоняя глаза от солнца, стояли они, видимо, любуясь чудной картиной моря, растительности и один за другим стали подпевать, повторяя некоторые мотивы из пьесы. Мало-помалу к пению присоединились и остальные, еще находившиеся в палатках, и скоро раздался громкий торжественный хор под аккомпанемент оркестра. Впечатление было величественное! В хоре я мог различить некоторые слова и фразы - то был гимн солнцу.
Все оживилось; из палаток вышли еще люди, выбежали дети. Но что за странные люди! Очевидно, это были дикари, так как все почти были голые, только немногие женщины имели узкие повязки вокруг бедер.
Дикари! Но какие же дикари просыпаются под звуки симфонии, исполняемой большим оркестром? И потом, это были белые люди, даже с очень белым, нежно-розовым цветом кожи, и какие все стройные и красивые, и все одни только молодые люди, юноши и девочки - подростки. Взрослые, очевидно, еще находились в палатках, вероятно, они еще спали. Одно было несомненно, - что люди эти принадлежали к кавказской расе.
И в каком все находились веселом, игривом настроении, улыбка играла у всех на лицах, иные громко смеялись, очевидно, кем-нибудь сказанной шутке, другие подпрыгивали и скакали, точно дети, вот один юноша подбежал к другому и, схвативши его под мышки, перебросил через себя с ловкостью акробата. Встречаясь друг с другом, они дружественно здоровались, пожимая руки, поглаживая друг друга по лицу и целуясь. Но особенно странным показался мне способ здороваться у мужчин с женщинами: женщина, подойдя вплотную к мужчине, быстрым движением переворачивалась, и прислонившись к нему несколько боком, опрокидывалась ему на руку, запрокинув в то же время голову на его плечо; мужчина же, поддерживая ее одной рукой за талию, другой гладил ее по лицу, по груди и затем целовал ее... И как все это делалось изящно и непринужденно, какой удивительной легкостью и грацией отличались все их движения!
Большинство вскоре направилось, весело смеясь и перегоняя друг друга, к протекавшему неподалеку ручейку и стали обмываться и совершать свой утренний туалет. Девушки пораспускали свои волосы и, расчесавши и убравши их, отправлялись к опушке леса, срывая цветы и зелень и украшая ими головы; иные навешивали себе целые гирлянды цветов на шею или на туловище в виде ожерелья или пояса. Одна молодая девушка нарвала папоротниковых ваий, устроила из них род короны и, надев ее себе на голову, пошла показываться другим, возбуждая всеобщий взрыв хохота и вызывая аплодисменты. Несколько юношей захотели, видно, продолжить эту шутку дальше; они побежали к лесу, нарвали несколько охапок ваий и, подбежав к украшенной короной девушке, надели ей, живо связав их в ряд, на шею - в виде накидки, и на пояс - в виде юбки. Теперь она вся была прикрыта зеленью и имела действительно смешной вид. Один из юношей воткнул ей еще в корону длинный стебель с цветами в виде колоса, качавшегося при малейшем движении. В таком виде ее повели к лагерю, смеясь, прыгая и танцуя вокруг нее, и ввели в большой шатер.
А вот другая группа молодых людей: стоя по колени в ручейке, они с хохотом и взвизгиваниями взапуски стараются оплескать друг друга холодной водой.
Какой веселый, шаловливый народ!
По окончании туалета часть молодых людей и девушек вернулись в палатки, остальные же направились в большой шатер, откуда до меня доносились оживленные голоса, прерываемые громкими взрывами смеха.
В это время внимание мое было привлечено появлением каких-то странных людей, выходивших из чащи леса, который расстилался позади палаток. Они были совсем непохожи на остальных; широкие в плечах и бедрах, с толстыми мускулистыми руками и ногами, с маленькой головой, сидевшей на низкой, толстой шее и казавшейся еще меньше, благодаря коротким, курчавым волосам, они производили всем своим видом впечатление чего-то крайне неуклюжего и неграциозного. Все это, так же как и цвет кожи, желтый с оливковым оттенком, ясно указывало на принадлежность их к совершенно другой расе. На них были надеты короткие юбочки из листьев, и в руках они несли горшки, кувшины и блюда с какой-то едой, направляясь в шатер. Это были уже несомненные дикари.
В это же самое время из палатки, расположенной близ шатра и отличавшейся от других несколько большей величиной, вышел старик высокого роста с длинной бородой, в белой одежде, накинутой наподобие римской тоги, и тоже вошел в шатер.
На площадке осталось только несколько детей, продолжавших резвиться, играть и кувыркаться, да две-три запоздавшие женщины с маленькими ребятишками верхом на плечах, пробежали к речке.
Крайне заинтересованный всем, что я видел, я совершенно забыл о себе и о своем положении; прошло, может быть, около часа, как я стоял тут, весь погруженный в свои наблюдения. Наконец, я вспомнил, что надо же что-нибудь предпринять и, не видя никакой для себя опасности, решился выйти из своей засады и направился к группе молодых людей, только что вышедших из шатра. Вскоре и они меня заметили, остановились в некотором недоумении и, переговорив друг с другом, пошли ко мне навстречу. Видно и я не внушал им никакого страха.
Подойдя к ним поближе, я спросил их, кто они такие.
- Мы друзья, - ответили они.
Но это мне мало что объяснило, и я опять обратился к ним с вопросом:
- А кто этот старик, который недавно вошел в большую палатку?
- Это Эзрар, наш покровитель.
- То есть начальник ваш? - спросил я.
- Что это значит? мы не понимаем, - сказали они, видимо недоумевая.
- Ну глава, вождь, князь, король, - и я перебрал все названия начальствующих лиц, но они, очевидно, не знали значения этих слов, отвечали отрицательно и настаивали на том, что это их милый, дорогой покровитель, и что они его очень, очень любят...
- Да постойте, - вмешался один из молодых людей, обращаясь к своим товарищам, - это, может быть, тоже покровитель, посмотрите, какой он высокий, и с бородой, и все тело его прикрыто; позовем Эзрара, пусть он с ним поговорит.
И несколько человек тотчас же кинулось в большую палатку, откуда вскоре вышел старик в сопровождении всех находившихся там лиц.
- Кто вы такой, - спросил он меня, - и откуда вы пришли?
Я в кратких словах объяснил ему, как я был выброшен бурей на берег и едва не погиб, и в свою очередь спросил, что это за люди, и куда я попал.
Но он ничего не ответил, а только продолжал смотреть на меня, широко раскрыв глаза, и затем, видимо, пришел в большое волнение. Отступя на несколько шагов, он стал внимательно осматривать меня со всех сторон, обращая, по-видимому, преимущественное внимание на мой все еще измокший костюм; все отодвинулись, чтобы не мешать старику, у всех были серьезные лица, то с изумлением посматривая на меня, то внимательно следя за озабоченным выражением лица у старика. Последний вдруг всплеснул руками и с волнением воскликнул:
- Возможно ли это! Да вы человек XIX века! Я видел в альбоме, на севере в музее изображения точно таких же людей и именно в такой одежде! Скажите, может ли это быть?!
Я ответил утвердительно. Тогда он подошел ко мне, заключил меня в свои объятия и, положив голову мою на свое плечо, стал гладить ее, приговаривая:
- Бедный человек, бедный человек!
Тотчас же все окружавшие нас молодые люди и девушки бросились также обнимать меня, брали за руки, целовали, гладили меня и всеми знаками старались выразить мне свое сочувствие и сожаление.
Это меня и удивило, и очень тронуло. Но кто-то заметил, что я, может быть, хочу есть, и старик с одной стороны, одна девушка с другой взяли меня за руки и повели в большую палатку.
- Садитесь гость, отдохните, - сказал старик, указывая на толстый обрубок дерева, и узнайте прежде всего, что вы попали к друзьям.
- Друзья, - обратился он к присутствующим, - налейте же поскорее этому чужеземцу молока.
И мне тотчас же поднесли кубок очень красивой формы из какого-то желтого металла, доверху наполненный молоком: я с жадностью припал к нему и выпил его залпом, так как действительно чувствовал сильный голод и жажду.
Все столпились вокруг нас и с любопытством рассматривали меня, обмениваясь тихим голосом замечаниями. Старик глядел на меня с приветливой улыбкой; его лицо, довольно смуглое и несколько восточного типа, окаймленное длинной пушистой бородой с сильной проседью, было полно ума и выразительности; тонкий с легкой горбинкой нос и высокий прямой лоб придавали ему печать благородства, а большие черные, замечательно красивые глаза его смотрели на меня с выражением, исполненным доброты и ласки. От этого взгляда мне сразу стало как-то тепло, спокойно и доверчиво на душе.
Глава II
- Итак, - обратился он ко мне, - вы хотите знать, кто мы и куда вы попали. Если вы человек XIX века, то вы будете поражены: мы - люди XXVII века. Целых восемь столетий, восемь седых веков отделяют нас от вас! Вы видите перед собой новое, перерожденное человечество, достигшее, наконец, того, чего вы и ваши преемники так долго и тщетно добивались, - счастья, полного, безмятежного счастья.
Вот посмотрите, вот они. эти счастливые люди, которые зовут себя друзьями и приветствуют вас как своего дорогого гостя.
И в то время как старик, взявши меня за руку, пожимал ее, все присутствующие, высоко подняв свои правые руки в знак приветствия, воскликнули хором:
- Приветствуем, приветствуем!
Как свободны, размашисты были все их движения! Как свежи и звонки их молодые голоса! Как стройны и красивы эти юношеские тела! Еще издали не мог я на них налюбоваться, но их лица мне, близорукому, трудно было тогда хорошо рассмотреть, и только теперь мог я свободно разглядывать их во всех подробностях. И Боже! Что за красота! Самое пылкое воображение не могло бы себе представить ничего подобного. Все как на подбор были писанными красавцами и красавицами. И какое разнообразие типов красоты!
Вот брюнетка, несколько смуглая, с томными миндалевидными глазами, маленьким пунцовым, как вишня, ротиком - настоящая восточная красавица; вот другая, с итальянским типом лица, тонким, точно выточенным носиком, чудными черными глазами, опушенными длинными ресницами, и густыми волнистыми волосами, спускавшимися ниже поясницы; вот еще брюнетка, с изящным античным профилем, классически правильным носом и каким-то особенно восхитительным выражением глаз, какое изредка можно встретить среди молодых красавиц-гречанок. Были между ними и блондинки, с нежно-розовым цветом кожи, голубыми глазами и наивно-детским выражением личика, какие попадаются иногда в Англии; одна такая блондинка с длинной светло-русой косой, свежими румяными щечками и большими темными глазами, полными таинственности и выражения, стояла возле старика, опершись рукой о его плечо. Но большинство присутствующих принадлежало к типу брюнетов, особенно юноши. Последние отличались от женщин короткими слегка вьющимися волосами, более выраженными и мужественными чертами лица, с слегка пробивающимся на нем пушком, редко переходившим в небольшую бородку и, наконец, несколько более смуглым оттенком цвета кожи. Это были все живые античные статуи, легкие, изящные, с безупречными формами, все на подбор высоко эстетические произведения природы, на которые нельзя было достаточно наглядеться.
Но женщины все-таки казались мне еще привлекательнее, нежнее, поэтичнее. Особенно поражал их необыкновенно маленьких размеров ротик с такими изящными изгибами линий, какие бывают только у самых красивых детей. Что-то бесконечно нежное, детски наивное было во всех этих лицах. А бюсты! Тонкие, гибкие, стройные, с идеальными маленькими то правильно сферическими, то слегка коническими грудками, а тонкие шейки, а плечи, руки с девственно чистыми очертаниями!.. И все эти очаровательные юноши, все эти идеально прекрасные девы стояли перед моим очарованным взором во всем величии наивной наготы или едва только прикрытые легкими тканями.
Я, кажется, без конца готов был смотреть и любоваться всей этой дивной красотой. Но старик, с улыбкой следивший за моими восторженными взорами, прервал наконец мое очарование и обратившись ко мне, снова заговорил:
- Судьба занесла вас на один из островов Тихого океана из группы Таити, на один из лучших уголков земного шара. Люди, которых вы видите, принадлежат к одной из общин, населяющих этот остров. Мы только что проснулись, и вы, вероятно, слышали благодарственный гимн, которым наши друзья приветствовали солнце, день и жизнь. Мы каждый день приветствуем так наступающий день, потому что каждый день приносит нам новое веселье и новые радости, и одни только радости.
Обильны событиями были минувшие века, велики перевороты, совершившиеся в человечестве, не оставив камня на камне от прежнего его устройства. Тяжелую, многовековую борьбу пришлось выдержать людям за свое счастье, и эта борьба так истерзала, так измучила и изуродовала их, что под конец они совершенно отчаялись когда-либо достигнуть своей заветной цели. Но нашлись люди, которые сумели остановить человечество на самом краю гибели, они сделали последнюю попытку завоевать счастье, они возродили и обновили старое, дряхлое человечество - и вот что получилось. Как вам нравятся новые люди? спросил он меня, оглядывая присутствующих с улыбкой, полной гордости и торжества.
- Я восхищен и очарован непомерной красотой, которая меня окружает, отвечал я. Но я вижу только молодежь, юношей и де- вочек-подростков, это все дети, где же взрослые?
- Их у нас нет, - ответил старик. - То, что вы тут видите, и есть наше человечество, и таково оно везде, где только живут люди. Прежнее человечество, то, к которому принадлежите и вы, все состояло из стариков - молодых, взрослых или старых, ибо даже дети ваши нередко были уже маленькими старичками. У нас же наоборот: старики - и те молоды, а наши взрослые - это дети; по строению тела все люди наши не более как юноши, а по характеру - настоящие дети, и хорошие, добрые дети. Вот посмотрите, как вы думаете, сколько этой женщине лет, спросил он, указывая на прелестную девочку-подростка с формами Психеи, сидевшую у него на коленях, прижавшись к нему, одной рукой обняв его за шею, а другой играя его бородой.
- Мне кажется, - ответил я, - что этому ребенку должно быть лет 13-14, самое большее 15.
- Вы ошибаетесь, возразил старик, ей 35 лет, и у нас это уже старость. Присмотритесь к ней поближе.
И он подвел ее к выходу из палатки. При солнечном свете я действительно мог рассмотреть на ее совсем молодом, совсем детском личике несколько морщин, а в волосах кое-где, пробивающуюся седину, чего издали совершенно нельзя было заметить.
- А вот это наш мужчина, - указал он на юношу с головкой чисто римскою; напоминавшей юного Гракха, с тонкими губами, очерченными с изяществом античной камеи, с едва пробивающимся на лице пушком и совсем без волос на остальны частях тела.
- Геро, сколько тебе лет? - спросил он его.
- Мне 28.
- А тебе, Теина, - обратился он к чудной красоты брюнетке с длинными темно-каштановыми волосами, перевязанными ниже затылка и идеально совершенными формами тела, - который тебе год?
- 26, - ответила она.
- Здесь, около вас, - продолжал старик, - все почти взрослые. И это одно из торжеств наших! - воскликнул он. - Наши люди вечно юны, вечно молоды, и даже в старости красота их лиц и формы тела нисколько почти не изменяются.
- Но, значит, это не люди, - заметил я, - а какие-то ангелоподобные существа! Как люди могли бы так переродиться?!
- О нет, - ответил старик, смеясь, - это не ангелы, это некие-нибудь особенные существа, а такие же люди, как и вы, плоть от плоти вашей и кость от костей ваших, но только действительно это улучшенная, усовершенствованная порода. И достигли мы этого очень простым средством - подбором, тем самым искусственным подбором, который был хорошо известен и в ваше время, но который вы, безумные, применяли только к усовершенствованию лошадей, свиней, собак, ко всему, но только не к самим себе.
Вот этой-то беспредельно могучей силой мы и воспользовались для того, чтобы переродить человечество и сделать из людей вечно юных, веселых и счастливых детей. Если же вы хотите узнать, что побудило нас переродить их именно в этом направлении, то слушайте.
Глава III
- Когда мы, небольшая кучка людей, видевших гибель рода человеческого и решившихся попытаться обновить и возродить его, получили, наконец, после долгой и тяжелой борьбы бесконтрольную власть над человечеством, то прежде всего нам предстояло решить, какими должны быть новые люди. Те, среди которых мы жили, дошли до последней степени испорченности и вырождения, с такими людьми счастье устроить было невозможно, надо было совершенно заново переродить их и физически, и духовно. Необходимость этого не подлежала никакому сомнению. Опыт всего человечества - долгий, тяжелый и разнообразный опыт - доказал, что никакие учреждения, никакая организация человеческих существ не могли привести людей к счастью, и что эта невозможность коренилась в самой природе человека. Всевозможные системы были испробованы за протекшие столетия, иные по несколько раз, все успехи науки, искусства, техники, вся сложная цивилизация, величайшие подвиги бескорыстной любви и самоотвержения - все это было к услугам человека, но ничто не могло принести счастья, все разбивалось о его природу: последняя, очевидно, была несовместима со счастьем. Следовательно, не новые системы, не новые учреждения, не дальнейшие успехи техники и цивилизации, ни даже новые подвиги любви надлежало нам искать, нет. нам нужно было переделать самого человека.
Но как переделать? какова должна быть природа новых людей - людей, прежде, всего способных быть счастливыми? Где искать указаний? Где та раса, та группа человечества, та хотя бы небольшая кучка людей в длинном ряду веков, которая была бы истинно счастлива, и счастьем достаточно полным и достаточно прочным, чтобы из-за него стоило предпринимать гигантский, титанический труд наш. Неужели, думалось нам, мы не найдем за все существование человечества хоть какое- нибудь указание, которое, как маяк или хотя бы как слабая путеводная звездочка, могло бы освещать нам путь и помочь прийти к цели.
И вот, мы принялись перелистывать страницы истории человечества и искать в ней образцов истинно счастливых людей.
Были ли счастливы дикари? - нет, они прозябали, они жили среди холода, голода и ежеминутного страха погибнуть от руки ближнего, находясь под постоянным гнетом всевластного обычая, а если в таких счастливых райских уголках земли, как полинезийские острова и попадались иногда племена, сумевшие близко подойти к счастью, то и у них оно было непрочное и скоропреходящее. Были ли люди счастливы в период тирании, в эпоху древних великих царств с их рабством и внешним блеском? - подвластные люди и рабы - конечно нет, ни даже сами тираны. Были ли люди счастливы в феодальный период с его кулачным правом, правом сильного, с его религиозным гнетом? Слабые, угнетенные - конечно нет; сильные иногда, по- видимому, да, как, например, богатые люди в Италии в эпоху возрождения, но и тут счастье было эфемерное, часто сомнительное, да и многие ли им пользовались и какою ценою. Образцом служить нам они не могли. Были ли счастливы рабочие пролетарии XIX и XX веков? - конечно нет, так же как и армия полурабочих, пролетариат знания и техники. Но, быть может, счастливы были хозяева и капиталисты, люди богатые? Может быть, иногда, очень немногие, но и у них были свои горести, и их счастье носило печать сомнительности и непрочности; да и кто, как не сыны обеспеченных классов вашего века, произвели на свет это страшное детище - пессимизм? Были ли счастливы социалисты XXI и XXII веков? На очень короткое время в период всеобщего энтузиазма воцарилось кое-где подобие счастья, его мираж, но энтузиазм скоро остыл, и пошли опять прежние распри и раздоры, прежняя игра страстей, все разрушивших и рассеявших этот мираж. А потом пошли новые несчастья, новые горести и, все увеличиваясь и обостряясь, они довели, наконец, человечество до полного отчаяния, до готовности наложить на себя руки. Да, действительно, в XXIV веке были грандиозные попытки самоистребления рода человеческого! Нигде не нашли мы того счастья, какого искали, - надежного, прочного; а если проблески его иногда и появлялись, то в нем самом уже гнездился зародыш того червя, который, источив сначала сердцевину, губил, наконец, и весь плод.
И вдруг мы нашли счастливых людей! В поисках за ними мы совершенно забыли о существовании обширной группы человечества, которая во все века, при всех условиях: дикости, тирании, феодализма, капитализма, социализма - всегда была безмятежно счастлива, - то были дети! Это открыло нам глаза и сразу осветило нам путь. Итак, - вот где истина, вот что нужно для того, чтобы осуществить вечное счастье на земле: нужно, чтобы люди стали подобны детям, ибо только дети могут быть счастливы.
И в самом деле, подумайте, может ли быть иначе! Что такое счастье, из каких элементов оно состоит? Первый элемент - то стремление к чему-нибудь, второй - достижение того, к чему стремились и, наконец, как результат, - наслаждение достигнутым; затем новое стремление, новое достижение и новое чувство удовлетворения, потом опять стремление и т. д. до самой смерти. В основе, следовательно, лежит коренное свойство человека - стремиться, и не только человека, но и животного и даже всего живущего. Уничтожьте это свойство, и без него не будет счастье, а только совершенно безразличное состояние. Но если это свойство является условием счастья, то оно же может быть источником и несчастья, все зависит от уменья его применять, и умеют это - только дети! Дети потому и счастливы, что они непрерывно стремятся, но при этом стремятся только к простому, только к легко достижимому и, легко достигая всего, потому-то вечно и довольны своим положением.
Вы, люди, вечно стремились или к недостижимому, или к такому, чего достигнуть было трудно и возможно только путем усиленной борьбы, ценою страшных усложнений, обыкновенно даже страданий. Удивительно ли после того, что самое достижение цели редко вас удовлетворяло, оно отравлялось и этой борьбой, и сознанием тех жертв, которых оно стоило. Отсюда - постоянное ваше недовольство настоящим, постоянное стремление к новому, еще более сложному и труднее достижимому, пока, наконец, в момент смерти с отчетливою ясностью не выступало сознание ничтожности всех этих столь трудно достижимых целей. Только на смертном одре человек становился опять прост, как ребенок, но увы! - уже слишком поздно!
Тогда только, поняв все это, мы поняли, в каком смысле надлежало переродить человечество. Но было ли это осуществимо?
В то время мы обладали такими могучими орудиями, оставленными нам в наследство наукой предыдущих веков, и сами мы, люди, стремившиеся к обновлению, были так тесно сплочены и действовали так единодушно, что мы могли тогда сделать с человечеством решительно все, что бы ни захотели. Мы могли превратить людей в существ полусознательных, подобных животным, не сознающим своего положения; но был ли смысл трудиться для того, чтобы населить землю такими безразличными существами, которые, правда, не испытывали бы горя, не сознавая его, но не знали бы и радостей. Мы могли путем искусственного подбора превратить людей в дикарей, из всех людей, быть может, еще самых счастливых, но к чему бы это повело? Через несколько тысячелетий эти дикари, в силу неизбежного закона прогресса, дошли бы опять до прежнего состояния, вторично пройдя через весь длинный мартиролог, через который уже раз так мучительно прошло человечество. Мы могли, наконец, безболезненно истребить весь род человеческий. Да, мы обладали могучим средством, при помощи которого, могли, не прибегая ни к одному убийству, заставить через одно, много через два-три поколения вымереть весь род человеческий. И этот последний исход казался едва ли не самым целесообразным. Но прежде чем прибегнуть к нему, мы решились сделать еще одну попытку - смелую, пожалуй, до безумия: мы задумали из четырех возрастов человека - детства, юности, зрелости и старости, выбросить два последних, как несовместимых со счастьем, оставив только два первых, иными словами - создать особую породу детей, способных плодиться. Если бы и эта попытка оказалась неисполнимой, то оставалось одно - прекратить существование человеческого рода навсегда. Оставлять его далее мучиться - было бы слишком жестоко.
И вот мы принялись за работу. С большою тщательностью выбрали мы такие элементы, которые могли дать желаемые результаты, то есть людей, наиболее приближавшихся к детскому типу и по физической организации и, главное, по душевным качествам, и строгим подбором из поколения в поколение усиливали и развивали требуемые качества. И теперь мы можем с радостью сознаться, что наши труды увенчались полным успехом. Результаты превзошли даже все наши ожидания.
Я слушал, пораженный неожиданностью и оригинальностью всего, что узнал. Умом, сознательно я не мог сразу освоиться со всем этим, так оно было ново и отлично от моего прежнего миросозерцания, но чутье смутно мне подсказывало, что старик, может быть, и прав.
- Да, - задумался я, - ... действительно ... и в наше время говорили: счастливы, как дети, весел, как ребенок, детский возраст иначе не называли как счастливым, все ему завидовали. Видно и всегда это было так, видно все меняется, и только одно остается неизменным - это детская природа...
Глава IV
- Но кто же все это совершил? -спросил я, -вы все время говорите: мы решили, мы сделали, мы покровители; вы как-будто выделяете себя из всего остального человечества.
- Да, - ответил старик, - действительно, мы составляем совершенно обособленную расу. Основа, масса человечества состоит из вот этих юношей и подростков, как вы их называете, из друзей, как мы их называем, но кроме них существует еще другая порода людей, гораздо ближе стоящая к вам, чем эти дети, прямые, можно сказать, потомки прежних людей - это мы, покровители, как они нас называют. И действительно, мы не только их покровители, но и их создатели. Нашим умом, нашими познаниями, нашей волей произвели мы на свет этих счастливых, веселых детей по наперед начертанной программе. Мы воспользовались громадной силой, которую давала нам ваша наука, особенно в лице законов наследственности и подбора, и как видите на наших друзьях, мы значительно изменили первоначальный тип человека, но сами мы остались приблизительно теми же и физически, и духовно. Мы являемся хранителями знания, исторического опыта, мы за друзей наших, за дорогих наших детей думаем, тщательно оберегаем их жизнь, устраняем все, что может угрожать их счастью, дабы сами они могли жить весело и беззаботно. Без нас, покровителей, род человеческий быстро бы погиб.
- А знаете ли что, Эзрар, я иногда мечтал, как было бы хорошо, если бы Бог послал на землю своих ангелов, видимых, во плоти, которые жили бы среди людей, руководили бы ими, помогали бы им во всем, устраняли бы с их пути все соблазны и затруднения. И теперь я вижу, что вы осуществили эту мечту мою. Как это все странно. Но я замечаю, что вы значительно разнитесь от друзей и физически, у вас совсем другой вид, чем у них, как же вы поддерживаете свою особую расу?
- Да, мы значительно больше их ростом, не обладаем их детской красотой, вон и борода у меня какая большая; мы подвержены, как вы видите, и старости, но зато и живем вдвое-втрое больше их, обыкновенно до 100 лет, и это долголетие, также выработанное искусственным подбором, является для нас особенно важным и необходимым. Благодаря ему, мы знаем прошлое отцов и даже дедов теперешнего поколения друзей и потому ясно можем видеть результаты того или другого подбора родичей, усилить требуемые качества, ослабить или совсем устранить нежелательные элементы. Но у нас, покровителей, есть и свои женщины, которые и поддерживают наш род. Мы не смешиваемся с нашими друзьями, как и они не смешиваются с нами.
- Значит, в человечестве произошел полиморфизм ?
-В легкой форме - да.
- Ах, - воскликнул я, - как все это удивительно и как хорошо придумано! С одной стороны - дети, веселые, счастливые, незаботящиеся о завтрашнем дне, с другой - вы, старшие, смотрите, чтобы с ними не приключилось какой-нибудь беды. Вы являетесь в некотором роде их няньками или воспитателями!
- Не в некотором роде, а совершенно, - возразил старик, - улыбаясь. Или вернее: мы отцы и смотрим на друзей как на наших родных и дорогих нам детей; мы так же нежно любим их, как родители своих детей, и они отплачивают нам тем же. Правда ведь? - обратился он к друзьям.
Не успел старик этого произнести, как со всех сторон посыпались живые доказательства справедливости его последних слов. Все наперерыв бросились к нему, стали обнимать его, целовать его руки, лицо, восклицая:
- Да, да, любим, очень, очень любим тебя! Ты наш дорогой, милый покровитель.
Трогательно было видеть эту своеобразную картину, этот могучий взрыв неподдельной, глубокой, искренней любви!
- И в этом наше счастье! - громко проговорил старик, видимо и сам взволнованный.
Я глядел, задумавшись, и любовался представившимся мне зрелищем. Двое прелестных созданий так и остались сидеть на коленях у старика, обняв его за шею; он их ласкал и гладил по головкам, а они, точно двое птенчиков, уютно прижавшись к его груди, смотрели на меня с улыбкой радости и счастья на их прелестных юных лицах. Другие уселись у его ног, и этот величественный, красивый старик, окруженный нежными, как только что распустившиеся цветки, созданиями, точно патриарх своим многочисленным потомством, составляли группу, полную красоты, поэзии и глубокого смысла.
Да, подумал я, здесь, очевидно, царит не только красота тела, но и красота духа.
- И вы говорите, - обратился я снова к старику, когда все успокоилось, что эти дети или люди - я как-то все затрудняюсь их так называть - счастливы. Чем же они счастливы, что они делают?
- Они счастливы тем же, чем бывают счастливы все дети, и делают то же, что всегда делали дети. Они счастливы своим бытием, их радует солнце, море, зелень, они любят гулять, купаться, собирать цветы, главное же их занятие - игры. С утра и до вечера они только и делают, что играют и веселятся.
- Но позвольте, - возразил я, как же это они все время играют, а когда же они работают?
Старик не сразу ответил на мой вопрос. Он как будто задумался, потом посмотрел на меня как-то странно, не то слегка насмешливо, не то с сожалением, и этот взгляд его почему-то меня смутил. Затем, медленно произнося, и глядя на меня своими большими черными проницательными глазами, он сказал:
- Ни мы, ни наши друзья никогда не работаем. - При этом он встал и с величественным жестом руки, возвышая голос, произнес:
- Труд, грубый, обязательный физический труд оскорбителен для человеческой природы! Он унижает ее, - это было проклятие, наложенное на человечество, и мы, слышите ли вы, мы его сняли с людей!
И произнеся это, старик как-то весь преобразился, глаза его заблистали, что-то могучее послышалось в его голосе, чем-то величественным сверхчеловеческим повеяло от этого высокого старца, осмелившегося произнести такие дерзновенные слова. Назвать труд, святой труд, каким мы его считали, оскорбительным, позорящим человека! Снять проклятие, на вечные времена наложенное самим Богом! Разве могут позволить себе это простые смертные? И человек ли тот старец, уж не воплощение ли он какого-нибудь могущественного духа!.. Да и вправду ли этот труд такой святой, и не мы ли, сами никогда не трудившиеся, так его называли!.. Уж не прав ли старик?
Таковы были мысли, промелькнувшие в моем уме; и вдруг один из кумиров, ложный и фальшивый, как мне теперь показалось, пошатнулся и готов был пасть в прах у ног моих. И каким-то ничтожным, маленьким и слабым показался я самому себе пред лицом этого странного, казавшегося мне теперь таинственным старца.
Но он успокоился, сел опять, и я робко обратился к нему с вопросом:
- Но, дорогой Эзрар, скажите, если люди не работают, то кто же работает, кто добывает средства к существование ?
- Рабы, - ответил он.
- Что вы говорите, - произнес я полный изумления, - у вас есть рабы?! Вы, по-видимому, такие умные и добрые люди, допускаете у себя рабство! Ах, да! Это верно те безобразные люди, которых я видел утром, несшие кувшины и блюда?
- Это были не люди, а рабы.
- Но ведь и рабы же люди, только несчастные!
- Нет, вы ошибаетесь, - возразил старик, вас сбивает с толка слово раб, которому вы придаете древнее значение и которым действительно прежде обозначали несчастных, угнетенных людей. Но мы воспользовались только прежним словом, на самом же деле под ним мы разумеем нечто совершенно иное. Повторяю - наши рабы не люди.
- Что я слышу, - воскликнул я, все более и более изумляясь, неужели вправду это не люди, неужели это усовершенствованные животные?
- Нет, - улыбнулся старик, и это неверно; эти существа действительно не люди, хотя и произошли от них, но это все-таки скорее видоизмененные люди, чем усовершенствованные животные.
- Но ведь это же страшная несправедливость, они же все- таки люди, и, значит, они мучаются, они несчастны, и неужели это не отравляет вам ваше счастье!
- Нет, - серьезно ответил старик, - наши рабы не мучаются, ибо они не сознают своего положения, и потому-то они не люди. Они разумны, что делает их гораздо ценнее всякого домашнего животного, но их разум очень мало развит, крайне специализирован и вращается только в известной сфере, для каждого очень ограниченной. У нас есть рабы, которые культивируют только горох и бобы - это главная их пища и пища наших коров - и прекрасно культивируют, но другого они ничего не умеют делать и даже ничего не понимают вне этой сферы; другие умеют только ходить за коровами и доить их, третьи сеют рис, четвертые умеют только плести циновки или лепить горшки, есть такие, которые нам прислуживают. У них, правда, нет особенных радостей, но нет и никакого горя, они всегда сыты, имеют жен и детей, которых по-своему любят, и совершенно довольны своим положением, так что ваши сожаления о них совершенно неуместны, тут нет никакой несправедливости, и в жестокосердии нас упрекать нельзя. Но зато, подумали ли вы, какие это учреждение имеет последствия для человечества?
- О да! - воскликнул я, - я понимаю! Это гениально! О, теперь я все понимаю! Вот - счастливые, веселые, добрые дети, вы - любящие их и умные воспитатели, нужна же и прислуга, нужны чернорабочие, повара, коровницы. О да, это верно, не этим же чудным изящным созданиям доить коров и возиться в навозе и грязи. Итак, вот как разрешился вечный вопрос о счастье, о благополучии людском! Вы устроили нечто вроде разделения труда, и какое оригинальное: одни существуют специально для наслаждения жизнью - это детство и юность человечества, другие - представители зрелого возраста и старости существуют для того, чтобы - заботиться о первых и любоваться их счастьем и, наконец, третьи трудятся и работают за всех. Скажите, верно ли я понял? так ли это все?
- Да, вы совершенно верно поняли: именно таковы основы новой системы человечества. Она основана на выделении из жизни человеческой несовместимых элементов, и как результат этого получилось то, что вы не совсем верно назвали разделением труда, и что я бы назвал гармонией. Труд, ум и счастье - вот три элемента, без которых человечество не может существовать. Но труд всегда мешал людскому счастью на земле, да и непригоден он детям - и мы выделили этот элемент из человечества и поставили его вовне. Ум слишком едкий элемент, соприкасаясь со счастьем, он разлагает его - и мы его тоже выделили, сконцентрировав его в нас самих. И вот осталось человечество с одним только счастьем - простым, по прочным.
- О, как это грандиозно! Я восхищен этой идеей, я никак не ожидал, что человечество именно так разрешит свою вековую задачу. Но, но ... позвольте, как же с трудом ... я все-таки не знаю, что мне больше: восхищаться или возмущаться... Допустим, что всю тягость земной жизни, весь черный труд вы свалили на рабов, что они этого не чувствуют, не страдают, допустим, что это так, - это уже совершившийся факт, и как с таковым можно, пожалуй, с этим еще примириться. Но все- таки мое чувство глубоко возмущается: ведь это значит, что некогда совершено было страшное, невероятное преступление: целая половина человечества была затоптана в грязь, придавлена, унижена для того, чтобы другая могла предаваться беззаботному веселью. О Боже, как это ужасно! Скажите, Эзрар, как могли вы на это решиться? О, какое преступленье! Нет, я с этим никогда не примирюсь, и вашего счастья, купленного такою ценою, я не могу уважать!
И я весь задрожал от сильного волнения, охватившего все мое существо, таким чудовищным, таким неслыханным показалось мне совершенное преступление. Унизить, выродить целую половину человечества до состояния скотов!
- Мой друг, - спокойно проговорил старик, - ваше волнение делает честь доброму сердцу вашему, но успокойтесь, никакого преступления не было сделано. Эти существа произошли и подонков человеческого рода, из самых низших рас или, вер нее, ничтожных остатков их, которых нам с великим трудом удалось найти в самых пустынных уголках южной и центральной Африки и отчасти Азии, из готтентотов и тому подобных племен, представителей которых и тогда нельзя было назвать людьми. Одичалые, отупелые, как звери влачили они свое жалкое существование, питаясь кореньями, вечно голодая; мы их размножили, подбором несколько усовершенствовали, развили в них податливость, трудолюбие и мышечную силу, дрессировали для разных специальных работ, которые они исполняют охотно, нисколько этим не тяготясь, по влечению, как работают пчелы и муравьи. И поверьте, теперь они живут гораздо счастливее или, по крайней мере, спокойнее, чем прежде, они всегда сыты, у них кров, защищающий их от дождя, у них, семья, дети; они только выиграли и, во всяком случае, ничего не потеряли от перемены своего положения. Мы никого, как видите, не принизили, никого не втоптали в грязь. От нашего поступка никому не хуже, друзьям же лучше.
А затем, прибавил он, несколько возвышая голос, знайте, что мы, покровители, являемся не только носителями знания, хранителями опыта человеческого, но также и носителями нравственных начал, и во имя их мы никогда бы не допустили и не допустим совершиться такой вопиющей несправедливости, в какой вы нас заподозрили!
Было, правда, некогда совершено преступление, страшное преступление, во сто крат большее, чем то, в котором вы нас упрекнули, но оно было совершено не нами, а знаете кем? - вами, нашими обвинителями! Это вы втаптывали в грязь, вы попирали ногами, вы унижали человеческую природу, и не одной половины, а целых девяти десятых человечества для того, чтобы на широком фундаменте, сложенном из сотен миллионов человеческих существ воздвигнуть красивое здание вашей роскошной цивилизации, для того чтобы, опираясь на него, наслаждаться довольством, наукой, изящной чистотой, приятно щекотать свои нервы зрения, слуха, обоняния
даже осязания. И что ужаснее всего, вы создали рабов не из диких племен, а из своих же собственных братьев, и что еще ужаснее рабы эти вполне сознавали весь ужас своего положения, мучились, стонали в своей грязи, они пытались и восставать из нее, но каждый раз натыкались на штыки, направляемые вашими ловкими руками, и задыхались в своей собственной крови. Вот но вы вправе назвать неслыханным, невероятным преступлением! Правда, дальнейшие события доказали совершенную неизбежность всего этого, совершенную несбыточность всех попыток внести справедливость в человеческие отношения, несовместимость правды с человеческой природой; но вы, люди XIX века, не имели еще этого ужасного опыта позднейших веков, вы все, напротив, в глубине души своей считали возможной жизнь на справедливых началах, но вы заглушали в себе тот голос совести, дабы вам, 1/10 человечества, спокойнее было пользоваться 9/10 всех благ земных. И это удесятеряло нашу вину.
Точно бичом по лицу, хлестнул он меня этими жестокими, но глубоко справедливыми словами, мне стало больно и стыдно за свою выходку, за свое глупое, бессмысленное возмущение; схвативши руку старика, я припал к ней и воскликнул в сильном волнении:
- Простите, Эзрар! Простите меня! Да, я был не прав, я не знал, с кем говорю. Но кто же вы тогда? вы, давшие человечеству вечную юность и счастье, снявшие с людей проклятие труда, скажите, вы, значит, не люди, а богоподобные существа ?
- Успокойтесь мой друг, - ответил старик, заключая меня в свои объятия, - не волнуйтесь так, виноваты тут не вы, а я. Но вы задели меня за живое своим обвинением, и я, забывшись, вместо того чтобы ограничиться оправданием, перешел в нападение на вас и ваших современников. Что же касается последних ваших слов, прибавил он, улыбаясь, то вы ошибаетесь: мы такие же простые смертные, как и вы, хотя восемь веков культуры и развития, конечно, недаром прошли над нами, они оставили на нас свой след, утончили наш ум, доведя его иногда до степени прозревания, прибавили знания, опыта; мы поэтому глубже вникаем в природу вещей, и многое для нас легче достижимо, чем было для вас. Не забывайте также, что мы не переставали совершенствовать себя искусственным подбором, и этим путем прочно укрепили в себе все хорошее, доброе, нравственное. Но, повторяю, мы те же люди, и лучшие представители человечества вашего века мало чем отличались от нас.
- Покровитель, - вмешался один из молодых людей, - мне кажется, что чужеземец не виноват, что так думает о наших рабах, ведь он их совсем не видел. Хочешь, я сейчас побегу и приведу нескольких из них, чтобы он мог на них посмотреть ?
- Нет, мой друг, не надо, они теперь заняты, и их не следует тревожить. Мы потом пойдем к ним, и наш дорогой гость успеет еще подробно с ними познакомиться.
- А теперь, - обратился он ко мне и лицо его при этом осветилось улыбкой, а голос сделался мягче, - чтобы рассеять тяжелое впечатление, произведенное на вас нашим разговором, полюбуйтесь еще раз на наших друзей, посмотрите, какие они изящные, красивые, и верьте мне: их душевные качества вполне гармонируют с их внешностью.
И я опять обвел глазами толпу этих красивых созданий, стоявших вокруг нас и со вниманием следивших за нашим спором, и действительно, ничто не могло так мягко, так успокоительно подействовать на мои взволнованные чувства, как это чудное зрелище. Некоторые из них подходили ко мне, брали меня за руку, гладили ее, как бы желая меня этим успокоит: одна прелестная молодая девушка с большими наивными, как у детей, черными глазами и крошечным пунцовым ротиком подошла ко мне и, положив мне руки на плечи, наклонилась к самому моему лицу, взглянула на меня с улыбкой и - поцеловала прямо в губы! И как все это делалось просто, мило, с coвершенно детской доверчивостью, без того стеснения, той холодной сдержанности, которые ставили такие тяжелые преграды в отношениях между нашими людьми. Я как будто находился в большой дружественной семье и сам все более и более чувствовал себя членом этой семьи.
Глава V
Но вид всех этих статных молодых людей, этих изящных маленьких женщин навел на меня ряд мыслей, и я, уже успокоенный, обратился к старику с вопросом:
- А скажите, дорогой Эзрар, как эти милые дети любятся, как у них сходятся полы, допускаете ли вы так называемую свободную любовь, или вы сохранили форму семьи?
- Любовь, - отвечал Эзрар, - как чувственная, так и психическая, играет у нас большую роль, и первую мы не считаем чем-нибудь низменным, постыдным, недостойным; напротив, мы смотрим на эту любовь как на одну из самых милых забав наших, как на изящный цветок, вплетенный в венок нашей радостной и праздничной жизни, и наши друзья часто-таки срывают этот цветок. Но мы строго различаем сношения, предназначенные исключительно для наслаждений, от таких, которые имеют целью продолжение рода. В первых мы не стесняем друзей, и они сходятся, как и когда им угодно, с одним только условием, чтобы эти сношения оставались бесплодными, но на вторые мы смотрим как на священную вещь, как на нечто в высшей степени важное и серьезное, ибо в них залог счастья и благополучия рода человеческого. Поэтому этого рода сношения находятся под строгим нашим контролем, и производителей мы выбираем с величайшей тщательностью, строго сообразуясь с законами наследственности.
- А как вы достигаете бесплодия первого рода сношений? в наше время этим вопросом тоже очень интересовались.
- Для этого мы употребляем гассетки, изобретенные в конце XIX века одним доктором по имени Гассе. Да они должны быть вам известны, - это гуттаперчевые колпачки с вделанной по краю стальной пружиной, которые надеваются на матку. Все женщины кроме тех, которые предназначены для продолжения рода, обязательно носят у нас эти гассетки.
- Неужели, заметил я, с тех пор не было изобретено ничего нового?
- О нет, - ответил старик, - было изобретено одно ужасное средство, которому мы в сильной степени обязаны всему нашему успеху. В эпоху тяжелой борьбы оно было нужно и сослужило великую службу, но теперь мы его употребляем только для рабов или в исключительных случаях, так как оно имеет нехорошие стороны. Но об этом я вам расскажу когда-нибудь подробно, так как это средство играло большую роль в истории обновления человечества.
- А как определяете вы пригодность людей для плодородных сношений?
- О, это великая и трудная задача, главная даже задача наша. Для достижения ее мы беспрестанно наблюдаем за друзьями, изучаем каждого из них с малолетства, отмечаем в наших записных книжках все достоинства и недостатки их, как физические, так и нравственные, и на основании этих наблюдений составляем для каждого особую формулу из условных значков. Каждый из наших друзей постоянно носит при себе подобную формулу, в которой кроме его личных качеств изображена также и его родословная, то есть наследственный состав его крови, если так можно выразиться. Вот посмотрите, указал он на некоторых друзей, стоявших возле нас, видите, у каждого имеется привешенной к руке золотая пластинка, на которой и начерчены эти формулы.
Действительно, я заметил, что все носили на правой руке узенький золотой браслет в виде тонкой цепочки, концы которой соединялись небольшой золотой же пластинкой; присмотревшись ближе, я разглядел, что на пластинках этих были начерчены или выцарапаны какие-то странные знаки и цифры, напоминавшие в совокупности не то химические формулы, не то сложные математические вычисления.
Старик стал объяснять мне значение этих знаков и цифр, из которых одни должны были означать количество крови различных родичей, другие - разные душевные и физические качества их самих; он показал, как две формулы, соединяясь, подвергаются в силу законов наследственности изменениям, причем одни знаки сокращаются, другие усиливаются или ослабляются, как иногда при неумелом выборе из двух формул, вполне благоприятных, в силу таких сокращений и изменений могут получиться совсем неблагоприятные результаты, то есть субъекты, полные физических или нравственных недостатков.
- Я знаю, - прибавил он, - что все это для вас мало понятно; наука о наследственности очень сложная и трудная наука, и развилась она только в позднейшие века, главным образом с целью усовершенствования домашних животных. В ваше время обо всем этом не имели еще никакого понятия. Но вы видите, что при выборе производителей мы руководствуемся, главным образом, этими значками, и как химик, соединяющий две химические формулы, знает наперед, какое из этого получится тело, так и мы, соединяя две наши формулы, наперед знаем, какой от этого соединения должен получиться человек. Вся трудность состоит в правильном их составлении.
- Действительно, - заметил я, - во всем этом я мало что могу понять, хотя вижу, как этот вопрос у вас удивительно хорошо разработан. Но это все относится до физической стороны любви, а мне бы хотелось еще знать, существует ли у вас также любовь в высшем, поэтическом ее значении, любовь, основанная на единении душ, а не на одном только телесном сближении, одним словом, та любовь, которая воспевалась нашими поэтами?
- О, без сомнения, существует. Я уже вам говорил, что как физическая, так и психическая любовь играют большую роль в жизни наших друзей. Но и в этом отношении господствует у нас полная свобода и непринужденность. Здесь все, как дети в хорошей семье, любят друг друга, но, помимо этой общей любви, почти каждый из наших друзей выбирает себе еще особую, более тесную привязанность, находя себе друга противоположного пола; такие парочки, основанные на взаимной симпатии, бывают обыкновенно вместе, принимают сообща участие в прогулках, в играх, поселяются даже в отдельную палатку, и тогда, помимо симпатии друг к другу, устанавливается у них и более или менее постоянная физическая связь. И такая дружба или, если хотите, любовь продолжается если и не всю жизнь, то довольно долгое время, несколько лет, пока в своих постоянных сношениях друг с другом, среди игр, под влиянием разговоров они не найдут себе новых симпатий, и тогда они расходятся совершенно просто, естественно, без всякой душевной ломки и образуют новые союзы, продолжающиеся годами, иногда даже всю жизнь. Это однако не мешает им порой, под влиянием минутной вспышки страсти совершать и неверности; но такие вспышки остаются без всяких последствий для более тесных и прочных союзов, и на это не обращается никакого внимания ни той, ни другой стороной. Понятно, что при этом остаются временные одиночки, еще не пристроившиеся, которые свободно сходятся с такими же одиночками противоположного пола.
- Но, - заметил я, - какая же это любовь? Вы говорите, что они сходятся и расходятся без всякой душевной ломки, что они не обращают даже внимания на неверности. Значит, им неизвестно и чувство ревности?
- В вашем смысле, ответил он, конечно, нет. Да и как бы она могла быть у нас. Ведь подумайте, откуда возникала ваша ревность? - я подразумеваю ревность благородную, проявляющуюся, главным образом, в отчаянии от потери любимой женщины, а не дикую, грубую, животную ревность. Судя по вашим романам, женщины у вас редко отличались выдающейся красотой тела или красотой духа, и если то или другое у них бывало, то они возводились вашими романистами в нечто необыкновенное, в героинь; когда же какой-нибудь автор позволял себе приписывать своей героине одновременно и красоту физическую и величие души, то критики спешили даже упрекнуть его в неправдоподобии, в неестественности. Поэтому когда мужчина встречал у вас женщину, обладавшую в действительности или только в воображении влюбленного какими-нибудь выдающимися физическими или душевными прелестями, и ему удавалось сблизиться с такой женщиной, то он дорожил ею, как драгоценнейшим кладом, как редкой жемчужиной, и если эта жемчужина ускользала из его рук и попадала в руки другого, то он приходил - в совершенно естественное отчаяние, доводившее его иногда до бешенства или самоубийства, ибо другой подобной женщины, по его понятиям, он не мог надеяться найти себе никогда. У нас же таких жемчужин сколько угодно, наши женщины при всем своем разнообразии все одинаково прекрасны, все одинаково милы и симпатичны, следовательно, у нас мужчине не из-за чего приходить в отчаяние, не из-за чего ревновать: если особенно ему милая женщина и покинет его, то он скоро сойдется с другой, не менее милой, и легко забудет маленькую измену. Она будет маленькой - ибо он мало при этом потеряет, а мало потеряет - ибо легко опять найдет потерянное.
- А! - воскликнул я, - вот все-таки ваша ахиллесова пята, вот где слабая сторона в жизни нового человечества. Ваши люди - дети, они и любят по-детски! Им неизвестна истинная, сильная, могучая любовь, доставлявшая столько счастья нашему человечеству. Разве то, что вы сейчас мне описали, есть настоящая любовь? Это какой-то суррогат любви!
- Суррогат? - повторил Эзрар, улыбаясь, и уже по его улыбке я увидел, что он сейчас будет прав. - Нет, нисколько. И так как вы употребили выражение из области пищевых продуктов, то и я позволю себе стать на эту же почву. Итак, скажите мне, неужели же потому, что сахар в сто раз менее сладок, чем сахарин, вы назовете сахар суррогатом, а не наоборот? Точно так же и ваша любовь, которую вы называете могучей, и которую я назову экзальтированной, неистовой, не может считаться нормальной и здоровой пищей для души. Любовь должна быть спокойным чувством, у вас же это было нечто болезненное, истеричное, соответствовавшее общей болезненности вашего нервного века, да и в значительнейшей мере такая любовь поддерживалась искусственно вашими романами. Ваши романы, благодаря их обилию и высокой талантливости писателей, положительно гипнотизировали все общество, и этого не избегала даже здоровая его часть. И потом, разве такое интенсивное чувство может долго держаться на своей высоте? оно вспыхивает сильно, как огонь от зажженной соломы, но так же скоро и потухает, оставляя после себя один только мрак и запах гари, то есть - длинный ряд горестей и разочарований. Стоит ли после этого так благоговейно относиться к подобной любви и жалеть, что у нас ее нет?
Ведь согласитесь, что любовь только тогда и нормальна, и желательна, когда она дает счастье и одно только счастье, а судя по вашим романам, она приносила вам гораздо больше горя, чем радостей. Один писатель конца XX века пересмотрел несколько сот лучших романов XIX и XX столетий и сосчитал в них все фразы, выражавшие, с одной стороны, радость и счастье, а с другой - горесть, и оказалось, что первых было только 25 процентов, тогда как вторых было 75 процентов!
- Зато, - воскликнул я, - какое это было счастье, какое бесконечное блаженство, когда две души сливались в унисон, когда упоение страсти, единство чувства и мысли - все это сливалось в один могучий аккорд! Один год, один час, один миг такого счастья - и затем приходи какое угодно горе! О, вы этого не понимаете, вы не можете этого понять!
- Нет, понимаем, - возразил Эзрар, но так могли рассуждать только бедные больные люди вашего века. Окруженные со всех сторон горестями и печалями, их не столько поражали эти последние, к которым они могли достаточно приглядеться, сколько радости. Радости встречались так редко на их жизненном пути, что как только представлялась возможность встретиться с этою редкой гостьей, они забывали все, набрасывались на нее и душили ее в своих объятиях с таким неистовым восторгом, что ... наконец, душили ее насмерть. А там, потом приходи горе, все равно от него не уйдешь.
Наши же друзья, напротив, живут в атмосфере счастья и радости, им не так нужны эти последние, как отсутствие горя. Да, это правда, теперешние люди не могут так любить, как это случалось у вас, да и то ведь не особенно часто, но это потому, во-первых, что они здоровы по натуре, со здоровыми нервами, во-вторых потому, что они не находятся под гипнозом ваших романов, в-третьих потому, что это им не нужно, ибо у них и без того много радостей, и в-четвертых, потому что мы их тщательно оберегаем от всяких тяжких разочарований и огорчений, с которыми неразлучна ваша экзальтированная любовь.
- А вы, покровители, - спросил я, - вы, взрослые, а не дети, какая же у вас любовь?
- У нас несколько иначе, хотя и наша любовь спокойна и безболезненна. Мы сходимся с раз выбранной нами женщиной обыкновенно навсегда, да при нашей жизни это иначе и быть не может. Ведь мы почти безвыходно живем среди наших друзей по двое, по трое в каждой общине; и нам всегда много дела, тем более, что мы по очереди должны еще находиться в деревне, где живут рабы, чтобы следить и за ними; вследствие этого мы редко можем отлучаться из своих мест и потому редко встречаемся с другими женщинами. И потом наши жены являются деятельными нашими помощницами, на их обязанности не менее, чем на нашей, лежит забота о правильном ходе искусственного подбора, требующего самых тщательных наблюдений и изучения каждого из наших друзей во всех малейших проявлениях их физической и психической природы, а это мыслимо только при постоянном пребывании и нас, и наших жен на одном месте. При переходе в другую общину весь запас опыта, приобретенный в прежней, терялся бы даром, на новом месте пришлось бы иметь дело с новыми людьми, и. следовательно, все начинать сызнова, а это неудобно.
- Положим, - сказал я, - что вы редко встречаетесь с женщинами вашей породы, но ведь вы постоянно вращаетесь среди друзей, вы живете окруженные целым роем самых соблазнительных красавиц, неужели вы всегда остаетесь холодны при виде их, неужели вы можете устоять против всего этого соблазна?
- Я лично уже стар, но конечно бывают и у нас минутные увлечения, в молодости мы даже позволяем нашим покровителям, что называется, перебеситься, лишь бы это не имело последствий, то есть не происходило бы потомства. Мы в этом не видим никакого зла. пусть себе каждый наслаждается, сколько может. Надо, впрочем, заметить вам, что чувственная сторона у нас, покровителей, очень слабо развита, так как слишком развитая, она была бы несовместима с тою тонкостью умственной организации и энергии мысли, которые нам, руководителям человечества, так необходимы. Мы поэтому намеренно подавили в себе чувственность, и все при помощи того же искусственного подбора. Впрочем, добавил он. улыбаясь, и наши женщины очень красивы.
- Знаете, - заметил я, - что во всем этом меня чрезвычайно поражает? Вы, благодаря искусственному подбору, по-видимому, достигаете величайших результатов без всякой мучительной борьбы, без малейшей душевной ломки, точно играючи.
- Мой друг, ваше замечание очень важно, и я рад услышать его от вас. Вы уловили одну из самых замечательных сторон нашей жизни, которую нельзя достаточно оценить. Да, мы не знаем, что значит душевная ломка, мы никогда ни в чем не насилуем своей природы, и не этим болезненным, жестоким путем усовершенствовали мы ее. Возьмите, например, чувственность; ведь сколько, как вы выразились, мучительной борьбы стоило подавлять ее тем из людей прежнего человечества, которые почему-либо считали нужным подавить этот могучий инстинкт, и как часто эта борьба, столь тяжелая и мучительная, оставалась бесплодной, пока на подмогу не приходила старость. А посмотрите, как это совершается просто, естественно и легко у нас. Мы сильно понизили в себе чувственность, но мы никогда не мешали и теперь не мешаем самым чувственным из нас предаваться своей страсти, сколько им угодно, мы не требуем от них никакой борьбы с самими собой, одного только мы требуем: чтобы такие особы не плодились, для продолжения же своего рода мы выбираем только наименее чувственных из нас. И так во всем. Мы не противимся никакому злу, мы никогда с ним не боремся, мы даем ему исчезнуть тихо, безболезненно, естественною смертью. Об одном только мы заботимся: чтобы зло не плодилось, плодиться у нас должно одно только добро. И это непротивление злу мы возвели даже в принцип нашей жизни, и если этот принцип, как вы видите, не препятствует нисколько достижению наших целей, то только благодаря искусственному подбору. Ведь зло, подобно сорной траве, плодится быстрее добра и растет сильнее его, и если бы не выпалывать эту сорную траву посредством искусственного подбора, то она скоро заглушила бы все доброе семя. Вот почему в ваше время этот принцип, вносящий столько мира в жизнь, был бы немыслим. Непротивление злу без искусственного подбора может привести только к размножению зла.
- Ну хорошо, - заметил я, - вы говорите, что никогда не насилуете природы друзей и не противитесь злу. А представьте себе, что одна из ваших женщин будет обладать каким-нибудь качеством, которое вы признаете нежелательным для передачи в наследство, - и вы решите, что она не должна иметь детей; но если она откажется носить гассетку и захочет иметь детей, что вы тогда сделаете?
- Такие случаи необыкновенно редки у нас. Но если бы это случилось, то мы стали бы так нежно ласкать и целовать ее, так убедительно просить ее не огорчать нас своим отказом, стараясь влиять и на ее ум, объясняя весь вред ее желания, что она под конец, наверное, согласилась бы исполнить нашу волю.
- А если бы не согласилась?
- Тогда мы обратились бы с такою же нежностью и любовью к мужчинам, стараясь и им объяснить вред, который произойдет для человечества от их непослушания.
- А если бы кто-нибудь из мужчин не послушался бы вас, или эта женщина старалась бы на каждом шагу соблазнить кого- нибудь из них, лишь бы только исполнить свое желание? Я думаю, ей не трудно было бы достигнуть своей цели.
-Тогда мы предоставили бы им поступать, как они желают, и постарались бы только, чтобы она выбрала мужчину с такими качествами, которые нейтрализовали бы ее строптивость духа и другие дурные стороны ее. А в случае неудачи и с этой стороны мы перенесли бы нашу заботливость на следующее поколение: если бы родился мальчик (а мы приняли бы все зависящие от нас меры, чтобы родился именно мальчик), то мы бы его стерилизовали, то есть сделали бы его бесплодным - и мы обладаем средством достигнуть этого без всякой операции; если же, несмотря на наше старание, родилась бы девочка и оказалось, что строптивость духа матери перешла в наследство и к ней, то мы сначала поступили бы с ней опять так же, как и с ее матерью, то есть просили бы ее не плодиться, потом просили бы мужчин, при неудаче же перенесли бы наши заботы на третье поколение. Вы видите, как много средств в нашем распоряжении для достижения наших целей; так или иначе, а в конце концов мы всегда можем уничтожить зло, не насилуя наших друзей, не мучая их. Но повторяю: такие случаи очень редки. Наши друзья очень послушные дети, и неудивительно - мы их сделали таковыми.
Глава VI
- Теперь, Эзрар, ваша жизнь начинает мне несколько разъясняться. Да, много своеобразного у вас, о чем мы и не мечтали, и много хорошего у вас. Но я никак не могу себе ясно представить, как все это произошло, как, например, вам удалось справиться с громадой испорченного человечества, с его бесконечным разнообразием мнений, мыслей, чувств, желаний? Убедили ли вы людей силой доводов, заставили ли вы их насильно подчиниться вашим взглядам? И то и другое кажется мне одинаково неисполнимым: разве могут в чем-нибудь сговориться миллиарды людей и разве вы, немногие покровители, могли бы одолеть силой эти миллиарды?
- Долго было бы рассказывать вам об этом, - сказал Эзрар, - ибо все настоящее естественно вытекло из ближайшего прошлого, ближайшее прошлое - из более отдаленного и т. д. Но вам все станет ясным, когда вы познакомитесь с историей человечества за протекшие восемь веков. В общих чертах вы уже знаете, каким стало новое человечество, присмотритесь теперь к деталям, приглядитесь к тому, как мы живем. Вам предстоит узнать еще много нового. А затем я познакомлю вас и с историей минувших веков.
-Да, - заметил я, - многое мне еще неясно. Откуда у вас эти роскошные палатки, эти красивые кубки, откуда эта чудная музыка, которую я слышал утром. У вас вот есть, я вижу, и ножи, и золотые браслеты, и даже гассетки, значит, есть и фабрики. И отчего друзья ваши такого небольшого роста? Если это взрослые, то для взрослых они очень малы, от этого отчасти я их и принял за юношей и подростков.
- Все это я вам со временем объясню. А пока скажу вам относительно малого роста, что это произошло помимо нашей воли. Когда мы решили создать новое человечество, то, как вы уже знаете, мы поставили себе задачей приблизиться и в физическом, и в нравственном отношении к детскому типу организации; и вот, постоянно подбирая женщин с красивым детским лицом, со стройными молодыми формами и мужчин с жизнерадостными характером, с простым детским сердцем, мы, наконец, добились своей цели, но, в то же время, получилось и уменьшение роста. Этому, может быть, способствовало и то, что наши люди рано вступают в половые сношения и предаются этому более прежнего. Но малый рост их нисколько нас не огорчает. Мы даже поставили теперь на очередь вопрос, не следует ли систематически добиваться уменьшения роста. Подумайте, как это упростило бы жизнь, насколько меньше потребовалось бы пищи, материи для палаток, меньше нужно было бы и рабов. Во всяком случае, обстоятельство это не важно. Но вот какой еще получился при этом результат, уже более печальный, который однако можно было бы предвидеть: наши женщины-дети становятся все более и более плохими матерями. Посмотрите на них: формами они очень красивы, но не замечаете ли вы в их наружности чего-нибудь особенного, что отличало бы их от ваших женщин?
- Я, замечаю, - ответил я, - что они необыкновенно стройны, точно стрелки, и меня поразило еще тогда утром узость их таза, это бросается в глаза, и кроме того, у них у всех очень мало развитые груди.
- Совершенно верно, и это также не что иное, как результат приближения их к детской или юношеской организации. Такая стройность их фигуры более нравится нашим мужчинам; они находят мало грациозными женщин с широкими бедрами и развитым седалищем. А маленькие грудки хотя, увы! мало дают молока, но зато являются залогом их сохранения до самой старости; я вам показывал 35-летнюю женщину, которой вы дали 15 лет! Но эти особенности, в то же время, являются очень неблагоприятными для деторождения. И вот это нас несколько беспокоит. Искусственный подбор ведь очень трудная вещь, выигрывая в одну сторону, часто теряешь в другую.
- Вообще, - продолжал он, - в отношении женского вопроса мы еще находимся в переходном состоянии, женский элемент не установился у нас окончательно, и мы производим теперь интересные опыты: мы стараемся выработать двоякого типа женщин - женщин-матерей, специально приспособленных для продолжения рода, и женщин-любовниц - для поэзии любви. И мы достигли уже некоторых результатов, которые позволяют нам надеяться, что лет через 200 женский вопрос будет окончательно и вполне благополучно разрешен. Да вот посмотрите лучше сами, чего мы достигли.
При этом он указал на угол палатки, где в полутьме лежало какое-то существо; вглядевшись, я увидел, что то была женщина. Она лежала на животе, подперши голову обеими ладонями, а возле нее на земле барахтались с обеих сторон двое ребятишек, задравши ножки кверху и энергично посасывая висевшие книзу груди.
- Лолла, встань и подойди сюда, - сказал старик, - чужеземец хочет на тебя посмотреть.
Она освободила груди от ребятишек и с улыбкой подошла к нам. Это была очень красивая лицом женщина, но резко отличавшаяся по строению своего тела от остальных. Она была гораздо полнее их, очень широкая в бедрах, но что особенно поражало в ней - это сильное развитие ее грудей, висевших как два огромных вздутых мешка; в общем в фигуре ее было мало грации, она и по внешнему виду, и по своим медленным, несколько неуклюжим движениям напоминала хорошую дойную корову, чему много способствовали ее вымеобразные груди.
- Это наша матка, - сказал старик. Такие матки появились совершенно случайно среди наших женщин и вначале, конечно, не в столь резко выраженной форме, но тщательным подбором мы их усовершенствовали и довели до такого развития, какое вы теперь видите. Мы очень ценим такие разновидности, но пока их в человечестве очень немного, всего около сотни. Наша милая Лолла, продолжал он, взяв ее за руки и нежно поглаживая их, родит всегда двойню, а иногда сразу трех, в других странах есть матки, рождающие даже четверых детей сразу, и молока у них хватает на всех. Что, Лолла, довольно у тебя молока?
Лолла на это улыбнулась и, указывая на оставленных ею на земле детей, ответила:
- Посмотрите сами.
Действительно, ребятишки были хоть куда, пухлые, розовые. Они в это время беспокойно копошились в углу, ища сосков; один из них поймал ножку другого и стал энергично сосать его палец. Все рассмеялись при виде этой сцены, а мать со смехом и криком: ах! они съедят друг друга! кинулась к ним, взяла их на руки и приложила к грудям!
- Да, заметил старик, славный экземпляр! Для поэзии любви такие женщины, как вы сами видите, не годятся, но для продолжения рода они незаменимы.
- Но, - спросил я, - такая разновидность, в силу наследственности, должна ведь производить и женщин того же самого типа, как же вы получите со временем, когда они одни будут матерями, тех стройных изящных женщин, на которых не налюбуешься?
- Почему же вы думаете, ответил Эзрар, что матки должны непременно производить только себе подобных женщин. Ведь эта разновидность - далеко еще не установившаяся, и потому дети, рожденные от наших маток, сохраняют в большинстве случаев свой прежний тип, и только часть их повторяет тип своей матери. И вот вам доказательства.
- Друзья, - обратился он к окружавшей нас публике, - соберите всех маткиных девочек под большим деревом, что возле моей палатки.
И в то время как стали приводить в исполнение его слова, он встал и, пригласив меня выйти из палатки, повел к великолепному раскидистому дереву, под тенью которого мы и разместились, усевшись на гигантских его корнях. Перед нами выстроились в ряд семь прелестных девочек от 5 до 12 лет, из которых две отличались большею полнотою и шириною таза, чем остальные, а у одной, приблизительно 8 лет, были уже довольно развитые груди, очень широкие у основания, но еще мало выдающиеся.
- Вот видите, - сказал Эзрар, - указывая на эту последнюю, это будущая матка, остальные дадут нам обычного типа женщин, а эта десятилетняя девочка с едва обозначенными грудями - переходный тип; его мы не пустим в ход, то есть не дадим ей родить. Но все это только опыты, и неизвестно еще, увенчаются ли они успехом или нет.
- Однако я вас все-таки не понимаю. Как же вы сможете выработать подбором таких матерей, которые постоянно будут рождать и маток, и женщин-друзей. Мне кажется, что когда тип их установится, то они должны непременно рождать только одного типа женщин, и притом, скорее всего, себе подобных. Я понимаю подбирать родичей так, чтобы они давали потомков, подобных самим себе, но подбирать так, чтобы они давали нечто на себя совсем не похожее, разве это возможно?
- Да, возможно, - ответил он, - и я вам разъясню, каким путем это достигается. Теперешние матки не все одинаковы, одни производят исключительно стройных женщин-друзей, другие -исключительно маток. Детям как от первых, так и от вторых мы не даем больше плодиться. Но встречаются между ними и такие матки, как, например, наша Лолла, которые родят девочек обоих типов, и таким-то мы исключительно и даем размножаться. И вот, постоянно подбирая их в этом направлении, мы и надеемся, что через несколько поколений эта последняя разновидность вполне укрепится. Тогда останется только подбирать маток, рождающих тот и другой тип в желательной для нас пропорции.
- Ах, - воскликнул я, - как это действительно просто!
- Покровитель, - вмешался один из молодых людей, все время внимательно нас слушавший, - а помнишь, ты нам рассказывал, что у муравьев и пчел то же самое, и у них матка родит и маток, и других маленьких самок-рабочих, только бесполых!
- Да, ответил старик, ты отчасти прав: муравьиные матки производят муравьев разных типов и себе подобных самок и самцов, и солдат, и бесполых рабочих, несмотря на то, что последние два типа не могут даже передавать в наследство своих признаков, так как они бесполы.
- Значит, - заметил я, - вы хотите иметь маток для рождения детей, а всех остальных женщин превратить в бесполых существ?
- Бесполых - нет, но бесплодных, хотя бы искусственно бесплодных, - да. Мы думаем, что совсем не необходимо, чтобы счастье, доставляемое любовью, непременно сопровождалось тягостями беременности, родов и сопряженной с этим порчей красоты, и если можно, то лучше избавить их от всего этого.
- Вы хотите, значить, свалить все эти тягости на немногих. Справедливо ли это?
- Справедливо ли? справедливо ли, чтобы было тяжело немногим и зато легко многим? Не знаю, это трудно разрешимый - вопрос. Если это совершается без насилия, а тем более добровольно, то я думаю - справедливо. Ведь взяли же на себя мы, немногие покровители, все тягости руководства человечеством, чтобы всем остальным жилось вполне легко и беззаботно. И поверьте, добавил он, и лицо его при этом несколько омрачилось, многие из нас предпочли бы быть на месте друзей!
Впрочем, вы не должны придавать этому слову тягости преувеличенное значение. Организация наших маток такова, что они родят без всякой боли, еще легче, чем в былое время дикари, а за неудобство беременности, которую они также переносят крайне легко, они вознаграждены чувством материнства, которое составляет их главное счастье, дети их ужасно любят, да и все мы их очень любим и уважаем, так как понимаем, что ими со временем будет держаться род человеческий. Их даже не считают некрасивыми: они так резко отличаются от остальных женщин и своими формами, и образом жизни, что к ним прилагается совершенно особая мерка в этом отношении. Могу вас уверить, что матки у нас не менее счастливы, чем остальные женщины.
Во всяком случае, так или иначе, а что-нибудь придется предпринять, ибо наши женщины становятся все более и более бесплодными, у некоторых даже не появляется регул, и это нас беспокоит, так как...
Но слова его были прерваны подошедшим к нему молодым человеком, который, нагнувшись к его уху, стал что-то говорить шепотом. Старик живо обернулся ко мне и сказал:
- Да, ты прав, Долли, я об этом и не подумал. Это, - указал он на молодого человека, - наш мудрец. Он замечательно наблюдателен и сейчас обратил мое внимание на вашу бледность и предположил, что вы очень устали. И правда, это и видно по вашему лицу ... да что с вами!
Я действительно почувствовал, что мне делается дурно, голова закружилась, на меня напала сильнейшая слабость, и я сполз с корня, не очень то удобного седалища, на котором поместился, беспомощно растянувшись на земле. Но до обморока не дошло.
- Ничего, - сказал я, - это усталость... Много впечатлений ... и ночь ... борьба, ничего, дайте полежать ... отдохну немного.
Глава VII
Старик быстро встал и направился к палатке, стоявшей неподалеку от нас и отличавшейся несколько большей величиной от прочих. Все обступили меня, выражая соболезнование; несколько женщин опустились на колени и, нагнувшись надо мною, стали меня ласкать и гладить по лицу и рукам, говоря: бедный, бедный, сейчас покровитель тебе поможет. Но мне уже помог вид этих нагнувшихся надо мною чудных красавиц, с их ослепительным нежно-розовым цветом кожи, с безукоризненными формами, этих грёзовских головок с чудным, милым детским выражением лиц. Сердце мое затрепетало от такого обилия красоты, и я не выдержал." улыбнувшись, я протянул к ним руки и, в свою очередь, стал их ласкать ... Это произвело неожиданное действие, они захлопали в ладоши и, живо обернувшись, радостно обратились к окружающим со словами:
- Он засмеялся, ему лучше, и он нас любит: он нас приласкал!
Очевидно, ласка имела для них большое значение. В это время поспешно возвратился старик, неся в руках серебряный стаканчик и небольшой, очевидно из золота сделанный флакон. В стакане была вода, в которую он влил из золотого флакона несколько капель какой-то жидкости и, подавая мне, сказал:
- Возьмите, выпейте, это принесет вам пользу.
И пока я пил он прибавил:
- В ваше время знали нечто подобное - это был морфий, но наше средство, которое мы называем нирваной, вам неиз- вестно, оно изобретено было лишь два века спустя. Для нас оно неоцененное, хотя и мрачное средство, и я вам когда-нибудь объясню, какое оно имеет значение в нашей жизни.
- А теперь, - обратился он к окружавшим нас людям, - возьмем и перенесем его в большую палатку. Стелла, Лорелей, бегите, приготовьте ему поскорее ложе из листьев, мы его положим, там ему удобнее будет, чем здесь на земле.
И хотя я стал протестовать, заявив, что и сам дойду, но на это не обратили внимания; старик тотчас же отделил десять человек, поставив их по пяти друг против друга и показал им, как скрестить руки, чтобы образовать род носилок, другие подняли меня кто под мышки, кто за ноги, кто схвативши за платье и положили на эти живые носилки. Не знаю, благодаря ли действию выпитого лекарства, или под влиянием всей ласки, всей заботливости, которыми меня окружали, но я почувствовал себя так легко, так отрадно, лежа на этих носилках, как никогда. Никогда, в самом деле, столько и так любовно за мной не ухаживали.
В таком виде меня внесли в большую палатку и положили на мягкое и удобное ложе.
Вскоре я стал чувствовать какую-то приятную истому, сознание стало затмеваться, и я впал в сладкое полузабытье, сквозь которое однако мог разобрать, как, понизив голос, люди стали расспрашивать старика, кто я такой. Я мог еще разобрать, как старик, все время наблюдавший за мною и, очевидно, следивший за действием данного мне наркотического, присел в противоположном конце палатки, как все присутствующие разместились около него и стали внимательно слушать рассказ его о человечестве и событиях моего времени; но уже точно сквозь сон различал я лишь отдельные слова, слишком хорошо мне знакомые: сражения, кровь, страдания, нищета, злоба, пушки, бомбы ... пока, наконец, и эти звуки перестали доноситься до моего сознания.
Не знаю, долго ли говорил старик, но когда я очнулся от своего забытья, то взорам моим представилась все та же группа. Старик однако уже кончил свой рассказ, до меня доносились только отдельные восклицания слушавших его, очевидно выражавших сочувствие несчастным людям моего времени: бедные! бедные! раздавалось со всех сторон, и по интонации голосов можно было видеть, что это были не одни только слова. Но вот старик встал и весело произнес:
- А ну-ка детки, я иду в деревню посмотреть, что делают рабы; кто со мной?
Несколько человек выразили желание ему сопутствовать, остальные же остались в тех же позах, задумавшись, и начали перебирать только что слышанный рассказ, обмениваясь разными замечаниями. Все удивлялись силе пороха, не понимали, как это такие тяжелые бомбы могли летать на такое громадное расстояние. К серьезным замечаниям начали мало-помалу примешиваться шутки, остроты, прибаутки. Видимо, грусть и печаль имели мало власти над этими детьми, как пылинки садились они на их сердца, чтобы тотчас же слететь при малейшем дуновении беззаботной веселости. Один из присутствующих взялся демонстрировать силу пороха и полет бомб и, схвативши маленького пятилетнего бутузика, только что вошедшего в палатку и закричавши: Анри, лови бомбу! ловко подбросил мальчугана по направлению к молодому человеку стоявшему шагах в десяти от него; тот так же ловко его подхватил и с возгласом: Ада, лови! перебросил его женщине, та направила его тем же путем к третьему, и при смехе публики и веселых взвизгиваниях маленькой живой бомбы, ребенка, свернувшегося в клубочек, стали перебрасывать, как мяч.
Но в шатре было тесно и неудобно для подобной игры.
- Стойте! - закричал один из молодых людей. Пойдемте лучше на площадку и будем играть в круг.
- Хорошо, хорошо! - с живостью ответили все, одни захлопали в ладоши, другие стали радостно подпрыгивать при этом, как дети, которым предложили какую-нибудь давно желанную прогулку. Тотчас все вышли из шатра и стали сзывать своих товарищей, которые и не замедлили собраться на площадку.
-Знаете, - сказал один из них, - давайте назовем игру в круг игрой в бомбы. И он вкратце объяснил всем тем, которые не слыхали рассказа старика, что такое бомба. Все охотно согласились на это предложение. Мне хотелось посмотреть на их игру, но я боялся, что мое появление их стеснит, и потому я прилег у самого входа в шатер, и, спрятавшись за его полог, стал высматривать оттуда.
Собравшиеся в числе, быть может, 30 или более человек - остальные были на берегу моря, откуда доносились их голоса - построились в круг, в который впустили десятка с полтора детей, начиная от самых крохотных, едва державшихся на ногах. Затем, сговорившись кто кому будет их перебрасывать, они схватили детей на руки. Дети, видно привыкшие уже к этой игре, свернулись в клубочки, подобравши ручки и ножки, подобно ежикам в минуту опасности, а взрослые, положивши их спиной на руки, при крике: начинай! стали перебрасывать их через весь круг своим визави, каждый раз вызывая их по именам и те тотчас возвращали их опять назад. Чтобы во время этого полета дети не могли столкнуться в центре, одни бросали их почти в прямолинейном направлении, другие подбрасывали их выше, третьи - еще выше, и таким образом в середине круга, благодаря изумительной быстроте, с которой производилось перебрасывание, образовалась как бы горка или пирамида из летающих ребятишек, оглашавших воздух радостными взвизгиваниями. Сердце у меня замерло при виде этого, каждую минуту я ждал, что кто-нибудь из детей или не будет подхвачен вовремя, или столкнется с другим во время полета, упадет и расшибется, но мои опасения были напрасны. Изумительна, поразительна была ловкость всех их движений, сила и гибкость их мускулов, верность глаза! Минут десять продолжалась эта игра, и ни разу не случилось ни малейшего несчастья. И какая грация в движениях! Вот когда представилась мне возможность вдосталь налюбоваться безукоризненным изяществом их форм и движений.
Не приняли участия в игре только большие дети, слишком тяжелые для того, чтобы служить бомбами, и недостаточно еще сильные, чтобы войти в состав круга. Но они придумали себе свою собственную забаву. Один из них быстро и с удивительною ловкостью влез на неподалеку стоявшую кокосовую пальму и, сорвавши несколько орехов, бросил их на землю, затем они составили свой маленький круг и. подражая взрослым, стали перебрасывать друг другу орехи. Вот, подумал я, естественная школа, где люди учатся играть и веселиться и приобретают свою изумительную ловкость
Но скоро играющие устали.
- Жарко, - заметили некоторые, запыхавшись, - пойдемте купаться. И группами, схватившись за руки, с ребятишками верхом на плечах побежали они или, вернее, поскакали, перепрыгивая с ноги на ногу, как бегают дети, направляясь к бухте.
Странное действие произвела на меня вся эта оживленная, веселая картина. Весело стало и мне на душе, кровь заиграла в моих жилах, я как будто помолодел. Ах! с каким удовольствием взял бы я их за руки и поскакал бы вместе с ними, если бы ... если бы мне не было стыдно!
Глава VIII
Я стоял у входа в палатку в нерешительности, что мне делать, когда показался старик, очевидно только что вернувшийся из деревни; увидев меня, он радостно протянул мне обе руки и сказал:
- Как, вы уже встали? Отдохнули ли вы, хорошо ли вы себя чувствуете?
- О да, - ответил я, - благодарю вас, я отдохнул и уже с полчаса как наблюдаю за играми друзей; они только что все побежали к морю.
- Хотите пойти к ним, - спросил он, - или вы предпочитаете спокойно посидеть где-нибудь в тени и побеседовать со мной? Я боюсь, что там, на солнце, вам будет слишком жарко.
Я с радостью выбрал последнее, и он повел меня по направленно к речке, где мы нашли прелестный тенистый и прохладный уголок среди густой зелени и удобно расположились на траве. Издали, с моря, доносились до нас веселые крики и смех купающихся, а у наших ног тихо журчал ручеек, ниспадая с камня на камень маленькими каскадами. Кругом нас порхали и щебетали птички, замечательно ручные, подлетавшие совсем близко, садившиеся даже нам на плечи, на руки. Я любовался этим тихим, мирным уголком, этой чудной роскошной растительностью, переливавшей всеми оттенками зелени. И какое богатство, какое необыкновенное разнообразие форм! Вот возле нас подымается толстый, весь черный и мохнатый, точно шерстью покрытый ствол древовидного папоротника, этого мамонта растительного царства с короной листьев, мелко изрезанных и просвечивающих на солнце; вот на другой стороне ручья, грациозно склонив свои ветви к воде, привлекает взоры мимоза со своими бесконечно нежными, необыкновенно мелко разрезными, как кружево, листьями, с обильными розовыми гроздьями сильно пахучих цветов; совсем возле меня росло какое-то ароидное с широкими листьями и громадным ярко-пунцовым початком, гордо торчавшим на прямой почти в сажень длины ножке, окруженным у основания широким белоснежным прицветником. С деревьев в беспорядке спускались всевозможные орхидеи, разливая целые потоки благоухания, наполняя этим тонким ароматом прохладную, влажную, освежающую атмосферу. Природа жила, видно, во всю ширь, полной, здоровой жизнью. Уютно, тихо, хорошо тут было! Казалось, я попал в земной рай. Такие уголки мне, по крайней мере, всегда мерещились, когда я старался представить себе в своем воображении поэтическую легенду о земном рае.
- Ах, дорогой Эзрар, - обратился я к нему, - как здесь хорошо и как вы должны чувствовать себя счастливыми, живя среди такой природы. Вы положительно нашли рай земной!
- Нашли? - заметил старик, - да он всегда тут был, но люди его не видели, а если и видели, то не нуждались в нем. Нужно было переродить их, как мы переродили, нужно было прежде внести рай в их души, чтобы они могли себя чувствовать счастливыми.в этом раю. Ваши люди скоро бы в нем соскучились и превратили бы его в ад.
- Но скажите, Эзрар, сколько же нужно было времени, чтобы так изменить людей, как они изменились?
- Гораздо меньше, чем вы думаете, - ответил он, - мы достигли всего этого в течение каких-нибудь 200 лет. Впрочем, такими милыми, добрыми, бесконечно веселыми, какими вы их видите теперь, люди стали сравнительно недавно. Даже такими красивыми и грациозными они стали только с последнего поколения. Еще на моей памяти попадались не особенно красивые лица, а между взрослыми женщинами не редкостью было встретить неграциозные и неизящные фигуры. Мы ведь спешили размножать человечество, так как начали с очень немногого, - и потому приходилось допускать плодиться и посредственностям. Но лет 30 тому назад мы сразу сделали большой шаг вперед. В это время появился на Маркизских островах один юноша такой неописанной красоты и грации, что слава о нем распространилась среди всего человечества. Мы его назвали Адонисом, которого он, наверное, превосходил во многом, и так как в то же время он отличался чрезвычайно веселым и симпатичным характером, то мы решили им воспользоваться для общего улучшения рода человеческого. И вот, все люди, которых вы здесь видели, - его дети, также как и все почти теперешнее человечество.
-То есть как это, я вас не понимаю? - спросил я с удивлением.
- Разве вы не заметили, - сказал он, - некоторого, так сказать, фамильного сходства между нашими друзьями?
- Ах, да, - ответил я, - действительно, несмотря на большое разнообразие, можно у многих подметить что-то общее.
- Это оттого, что все они дети одного отца.
- Все-таки я вас не понимаю. Разве возможно, чтобы один человек имел несколько миллионов детей?
- В ваше время это было невозможно, а теперь возможно, - сказал старик, улыбаясь при виде моего крайне удивленного лица. - Для того чтобы Адонис стал отцом большинства теперешних людей, нам вовсе не надо было, чтобы он вступил в сношение со всеми женщинами, мы воспользовались для этого гораздо более простым средством, а именно искусственным оплодотворением - мы оплодотворили всех женщин его спермой. Ведь вы знаете, что для этого достаточно одного живчика, а в капле спермы их много миллионов.
- Неужели вы делаете это! - воскликнул я. - И вы открыли средство искусственно оплодотворять людей?
-Да, - ответил старик, - хотя открытие это не наше, но мы его впервые применили к людям. Оно было сделано уже давно, одним ученым XXII века, и это было очень важным открытием, произведшим целый переворот в области разведения домашних животных. Оно до крайности ускорило и упростило это дело. В ваше время, когда появлялась какая-нибудь замечательная новая порода, нужно было очень много времени, чтобы она распространилась; приходилось ждать немало лет, чтобы получить сначала первое поколение, в числе очень немногих экземпляров, потом столько же для каждого из дальнейших поколений. Подумайте, сколько времени требовалось, чтобы получить производителей в количестве, достаточном для повсеместного распространения какой-нибудь усовершенствованной породы, и как дорого стойла пересылка племенных животных, не говоря уже о том, что неизбежное повторение скрещивания ослабляло саму породу, так сказать растворяло ее в преобладающей массе старой породы. Поэтому новые, улучшенные животные у вас редко распространялись, и улучшение их шло крайне туго и медленно. Когда же было найдено средство сохранять сперму в свежем виде и разбавлять ее до желаемой степени, то достаточно было переслать во все страны, всем желающим по одной капле этой жидкости, содержавшей всего несколько живчиков, чтобы тотчас же, в течении нескольких недель или месяцев могли быть оплодотворены все существующие самки; следующий шаг немедленно опять распространялся повсеместно с такой же быстротой, и т. д. безостановочно. И вы не можете себе представить, до каких изумительных результатов люди дошли благодаря этому. Один образчик этого вы увидите и у нас в лице наших коров.
Но и тут люди были точно ослеплены: они и не подумали применить это замечательное изобретете к самим себе! Они считали это чем-то постыдным, недостойным человека; достойнее казалось им плодиться без контроля разума, передавая в наследство все свои порочные качества, все болезненные черты организации. А подумайте только, какие удивительные результаты могли бы получиться, если бы люди решились влить в испорченное, развращенное человечество струю благородной крови таких великих современников ваших, как, например, Дарвин, Ренан, Гладстон, Л.Толстой! Да и мало ли можно было найти людей, хотя и без громкого имени, но вполне достойных стать отцами человечества.
Вот этим-то изобретением мы и воспользовались, и оно значительно ускорило и упростило наше дело обновления человечества. Я говорю упростило, потому что благодаря ему мы имели возможность начать всего с нескольких десятков мужчин, которых, следовательно, могли выбрать из всех тогда бывших с особою тщательностью. Ведь мы начали с очень небольшого числа людей, было время, когда все человечество состояло всего из 600 с небольшим женщин и только 25 мужчин, ибо себя мы не считаем, так как мы с ними не смешивались. Но и нас было не особенно много.
Я не знал верить ли мне своим ушам или нет.
- Как! - воскликнул я, - человечество состояло одно время всего из 625 душ? Не может быть! Куда же девались миллиарды людей?
- О, эти миллиарды нам никуда не годились, - ответил Эзрар. - Новое человечество пришлось создавать совершенно сызнова, старое же мы истребили.
- Что вы говорите, вы истребили миллиарды людей?!
- Не ужасайтесь, мой друг, ни одно человеческое существо не было нами уничтожено, мы только дали всем им вымереть без потомства, воспользовавшись тем средством, о котором я вам сегодня утром уже говорил, и оставили жить только тех немногих, которых считали пригодными для получения новой породы людей. Но и теперь людей еще немного, всего только около двух миллионов.
- Только два миллиона на весь земной шар!
- Нет, не на весь земной шар, ведь большая часть земли теперь необитаема.
- Не может быть, воскликнул я!
- Да, люди живут теперь только под тропиками, вся Европа, почти вся Азия, вся Северная Америки, большая часть Африки совершенно пусты и необитаемы.
- Это почему же?
- Мы решили, - ответил Эзрар, -что вне тропиков люди не могут жить счастливо, ибо жизнь там неизбежно должна быть или слишком сложной, или полной лишений. Посмотрите, как здесь мы живем просто, нам не надо ни домов - ибо мы живем в палатках, нам не надо ни многочисленной и разнообразной одежды, ни белья - ибо здесь всегда тепло, и наши друзья бегают голыми, мы обходимся без освещения - ибо ложимся и встаем вместе с солнцем. И в тоже время мы пользуемся такими удобствами и комфортом, какие у вас доступны были только самым богатым людям. Такие сады, такие красивые благоухающие цветы, среди которых мы живем, вы могли иметь, правда, и на севере, в ваших оранжереях и зимних садах, но что это вам стоило, какими архимиллионерами нужно было быть, чтобы где-нибудь в Париже или в Лондоне иметь хоть слабое подобие того, что здесь нам дается даром. Мы никогда не дрожим от холода, как это было с большинством ваших людей в Европе, и это опять нам ничего не стоит, точно так же, как и постоянно чистый и свежий воздух, которым мы дышим; а что стоило вашему меньшинству греться зимой у огня и не дышать затхлой атмосферой и всякими миазмами. А возьмите, например, чистоплотность, эту изысканнейшую из роскошей, что стоила она тем немногим из вас, которым она была доступна. Для этого вы должны были строить себе большие, хорошо устроенные помещения, ибо теснота и чистоплотность несовместимы, вам нужно было иметь много прислуги, бесчисленное количество белья, а следовательно, массу фабрик и заводов, его изготовлявших, нужна была целая армия прачек, которых надо же было и кормить, и одевать, далее нужно было мыло и, следовательно, салотопенные и мыловаренные заводы, нужны были ванны, водопроводы, трубы, краны и, следовательно, целый ряд заводов, все это изготовлявших, нужно было иметь и мастеров, и техников для всех этих фабрик и заводов, кормить, одевать и обучать их всех, нужны были рудники для добывания железа, меди и свинца, каменноугольные копи. Посмотрите, какие ужасные усложнения вызываются одной этой потребностью к чистоте, и как все это сразу упрощается под тропиками. Наши люди так чистоплотны, как ваши редко могли быть: каждое утро и каждый вечер они тщательно обмываются в этом ручейке, каждый день проводят они по несколько часов в море, и все это обходится нам совершенно даром. А живи мы вне тропиков, в Европе например, и нам пришлось бы или заводить все бесконечные усложнения, которые я вам только что перечислил, или - отказаться от нашей чистоплотности. И так во всем. Посмотрите вокруг себя: разве такая обстановка, как эта, может сравниться хотя бы с самыми роскошными из ваших будуаров и гостиных, разве вы могли иметь в них столько света, разве вы могли устроить у себя такие высокие потолки: посмотрите на эти гирлянды орхидей, разве их можно сравнить по роскоши и изяществу с вашими гирляндами из бахромы, с вашими портьерами и драпировками; а взгляните на это море, на этот живописный мыс, вдающийся в него, на эта грациозные пальмы, вырезывающиеся на лазурном фоне неба, разве вы могли украшать свои жилища такими великолепными и грациозными картинами. А хотите полюбоваться статуями - позовите нескольких друзей и любуйтесь. И вся эта роскошь, все это изящество, все эти удобства нам ничего не стоят здесь и стоили вам на севере миллиарды денег и слез.
Вот почему мы решили сосредоточить человечество исключительно под тропиками, да и то только в самых лучших, благодатных их уголках. Мы убеждены, что человечество может быть счастливо только при крайнем упрощении жизни, а это упрощение без лишений и без страданий мыслимо только под тропиками - и это один из основных, священных принципов наших.
- Но, - спросил я, - когда человечество ваше сильно размножится, придется волей неволей постепенно подвигаться все более и более к северу и югу.
-А кто же заставляет нас волей или неволей так сильно размножаться, разве это такой закон природы, с которым человек не мог бы справиться ? Разве не святая обязанность наша следить за тем, чтобы этого не случилось? Ведь и в ваше время образованные классы начали сдерживаться в этом отношении, и нам ли, преодолевшим столько трудностей, видеть в этом затруднение! Нет, упаси Боже когда-нибудь дойти опять до такой чудовищной, безобразной густоты населения, до которой дошло прежнее человечество! Ведь все зло на земле и произошло тогда, главным образом, от этой причины.
Глава IX
Однако, проговорил старик, торопливо вставая, мы с вами заговорились, и я совершенно забыл о друзьях. И, посмотрев на небо, желая по солнцу определить время, он прибавил:
- Ого! уже поздно, наши друзья, вероятно, скоро запросят есть: мне надо пойти на кухню посмотреть, как там подвигается дело. Хотите пойти со мною, или вы предпочитаете остаться здесь и еще немного отдохнуть?
- Нет, нет, я не устал, - ответил я, - и с удовольствием пойду с вами.
Мы вернулись опять к лагерю. Возле одной из палаток сидел на корточках мужчина, копаясь в земле, а возле него стояла молодая женщина с кувшином в руке. Проходя мимо них, Эзрар спросил, что они делают.
- Мы с Гебой посеяли одно вьющееся растение, помнишь, покровитель, то самое, которое мы нашли с тобой в лесу, с такими красивыми большими и пахучими цветами; оно завьет это дерево, и это будет очень красиво. Поливай Геба!
И пока Геба лила воду из кувшина, Эзрар объяснил мне, что они стараются переносить поближе к жилью все красивые растения, какие им встречаются в их прогулках по лесу. -
Геро и Геба, - прибавил он, - завзятые любители цветоводства, они знают все названия растений, как никто.
- А знаете, - обратилась Геба ко мне, - сын Эзрара обещал привезти много новых семян из дальних стран. Он поехал теперь - путешествовать и через год вернется. Ах, как я буду рада, если он привезет семена одной пальмы, которой у нас, к сожалению, нет - это Raphia longiflora; вот красота! Эзрар показывал нам рисунок. X потом хотелось бы еще иметь Verschaffeltia splendida; представьте, у нее листья не разрезные и такие громадные, громадные ...
- А хотите, - вмешался с воодушевлением Геро, - мы вам сейчас покажем все наши пальмы?
- Ах да, - радостно согласилась Геба. - А потом мы вам покажем наши раковины, они там, на берегу, и их у нас уже собрано 148 разных пород, и какие есть красивые! Хотите?
И она уже схватила было меня за рукав, готовая тотчас же привести это намерение в исполнение, но Эзрар заметил им, что нам теперь некогда, а я прибавил, что после с удовольствием посмотрю и на то, и на другое, и мы пошли дальше.
Кухня помещалась тут же, сейчас за палатками, отделяясь от них только незначительной полосой лесной чащи. Это было не что иное, как просто навес из листьев для защиты от дождя, поддерживаемый срубленными и едва только обтесанными стволами деревьев; под навесом расположен был целый ряд очагов, очень грубо сложенных из простых камней, кое-как смазанных глиной. В них теперь пылал яркий огонь, перед которым на вертелах жарились какие-то птицы, распространяя в воздухе аппетитный аромат; с десяток рабов в передниках, обхватывавших их бедра, хлопотали около огня, другие приходили из леса с корзинами, наполненными всевозможными плодами. Очевидно, все было готово к обеду.
В то время как старик давал еще некоторые указания, со стороны лагеря раздался громкий, звонкий крик: есть хотим! тотчас же подхваченный еще несколькими голосами, и вот, со всех сторон, из леса, с речки и особенно со стороны бухты поднялся целый веселый хор на все голоса: есть, есть, подавайте скорее есть! Мы поспешили в лагерь и направились к шатру.
Шатер представлял теперь другой вид: боковые пологи его были приподняты, чтобы дать доступ свету и воздуху, за исключением одной только солнечной стороны. Вдоль всего шатра в два ряда были расставлены небольшие, аршина два в диаметре круглые столы, сделанные из грубо отесанных досок, на очень низких, не более 6 вершков вышины ножках из простых древесных обрубков; такие низенькие столики употребляются на восток у арабов, курдов и других кочующих народов. Весь пол был устлан циновками, сделанными из тонких полосок пальмовых листьев с весьма искусно вплетенными узорами более темного цвета. Столы были красиво убраны и приготовлены к обеду: в середине каждого из них стояла высокая изящной формы ваза из какого-то желтого металла с великолепным букетом цветов; вокруг этой вазы горкой расположены были разнообразные тропические плоды: ананасы, бананы; апельсины и многие другие, мне совершенно незнакомые. Вокруг этого центра разложены были вместо тарелок круглые листья какого-то растения и прибор из серебряной ложки, вилки и ножа; перед каждыми прибором стоял кубок из такого же самого металла, как и вазы, наполненный молоком. Несколько женщин с большими пучками цветов и зелени в руках обходили столы, подправляя горки плодов, окружавших вазы, вставляя цветы между плодами и в букеты, придавая последним более изящный вид и рассыпая цветы и лепестки их в беспорядке по столам и даже на пол. В общем, картина этой оригинальной столовой представляла из себя нечто в высшей степени живописное и нарядное. Войдя в шатер, мне казалось, что я попал в какой-то сад, со всех сторон доносились до меня волны самых разнообразных ароматов, разливавшихся от всех этих тропических цветов. Но моему восторгу не было предела, когда я увидел, что и на букетах, и на плодах сидели громадные бабочки с раскрытыми крыльями, переливавшими перламутром и металлическим блеском, и горевшие всеми цветами радуги, подобно громадным драгоценным каменьям.
- Ах, какие чудные бабочки! - воскликнул я, указывая на них старику. - Неужели они живые?
- Это не бабочки, - возразил Эзрар, - это цветы, одно из торжеств искусственного подбора и садоводства минувших веков. Вы не можете себе представить, до каких изумительных результатов дошло человечество в этом отношении. - Лорелей, - обратился он к очаровательной молодой девушке с густыми и длинными пушистыми волосами, свежее личико которой своими детскими нежными очертаниями не раз ужепривлекало мои взоры, - подай гостю цветок, который он принял за бабочку.
И когда Лорелей, мило улыбаясь, подала мне его с грациозным жестом руки и я, поблагодарив, посмотрел ей в ее большие, темные глаза - я не знал, чем мне больше восхищаться: этим ли цветком - чудом растительного царства, - или другим цветком, стоявшим передо мною во всем благоухании юности, грации и красоты!
- Однако, друзья мои, - обратился старик к толпившимся вокруг нас людям, - я знаю, вы очень голодны, и потому ложитесь за столы.
Это странное приглашение ложиться, вместо садиться, за столы тотчас объяснилось: присутствующие разместились вокруг столов на циновках с подложенными под ними сухими листьями, возлегая наподобие древних греков и римлян и располагаясь попарно, мужчина с женщиной. Мужчины тотчас стали подбирать разбросанные на столах цветы и украшать ими волосы своих дам, любуясь ими, лаская и целуя их. Так обставлялся и так начинался обед у людей XXVII века!
За почетным столом, предназначенным для старика, поместили и меня, но так как с непривычки возлегать я не знал, как мне примоститься, то старик, заметив мое затруднение, подозвал двух молодых людей и велел им принести Два обрубка дерева, которые они тотчас же и вкатили, устроив из одного, повыше, стол, и из другого - скамейку. По приглашению Эзрара за тем же столом возлегли три самые отборные красавицы, в том числе и моя милая Лорелей - очевидное внимание ко мне, - и так как я не был посвящен в их обычаи, то и не украсил их прелестные головки цветами и не приласкал их, как это сделали остальные мужчины. Но они очень мило вывели меня из этого затруднительного положения: живо собрав по охапки цветов и зелени, они сплели несколько легких венков и надели их на головы мне, старику и себе; в то же время они погладили меня по лицу и поцеловали. Я с восторгом ответил им тем же, чем они и ближайшие наши соседи, видимо, остались очень довольны.
Между тем, среди, веселых разговоров, шуток и смеха появились рабы, неся большие деревянные блюда, покрытые листьями, на которых возвышались горы каких-то плодов или кореньев, и стали разность их присутствующим; это были, по объяснению Эзрара, печеные в золе иньямы. В то время как все с видимым аппетитом принялись за еду, запивая молоком иньямы, показавшиеся мне чрезвычайно вкусными, вдруг раздались опять звуки музыки, исходившие как бы от струнного оркестра. Это не были те могучие и торжественные аккорды, которые я слышал утром, что-то нежное и чарующее слышалось теперь в этих тихих звуках, не мешавших обедающим разговаривать. Впрочем, большинство ело сосредоточенно, очевидно со вниманием прислушиваясь к дивной музыке в одно и то же время веселой и серьезной, и только изредка, в особенно выдающихся местах, слышались восклицания: ах, как это хорошо!
Я сидел как оч
рованный, слушал и глядел. Передо мною расстилались в самых живописных и непринужденных позах безукоризненные юные формы нескольких десятков статных мужчин и очаровательных женщин, сверкая своими белыми телами, окруженные, как рамкой, зеленью и цветами. Цветы - всюду, цветы у всех на голове, в волосах, на шее, цветы на столах, цветы на полу! Красивые блестящие вазы и кубки, красивые птички, порхавшие кругом, подбирая крошки, садясь на столы, на людей, опьяняющие ароматы, разносимые мягким, как бархат, освежающим ветерком с моря, опьяняющие звуки музыки - все это сливалось вместе в одну грандиозную симфонию красоты. А вдали, прямо передо мною расстилалось широкое синее море, голубое лазурное небо с вырезающимися на нем пальмами, и все это радостно залито было золотистыми лучами солнца. Что это, феерия или действительность?
Сколько тут поэзии, сколько роскоши и сколько, в то же время, во всем этом простоты!
Когда кончилась музыка, я обратился к Эзрару с вопросом, откуда она и кто так хорошо играет.
- Никто не играет, объяснил он, у нас для этого имеются металлические пластинки, на которых записана или, вернее, выдавлена эта музыка и которые вставляются в особые приборы, издающие звуки; да разве нечто подобное не было известно в ваше время?
- Ах, это, вероятно, фонограф?
- Да, нечто в этом роде, но в более усовершенствованном и, главное, упрощенном виде. Это единственная сложная вещь, которую мы сохранили от всей вашей сложной цивилизации.
Я обратил затем внимание Эзрара на вазу и спросил, из чего она сделана.
- Из золота, - ответил он.
- Неужели все эти вазы золотые?
- Да, так же как и часть кубков, остальные, как и вилки и ложки, серебряные.
- Откуда же у вас столько золота, и как согласовать такую роскошь с простотою во всем остальном?
- И вы еще спрашиваете, откуда! - ответил Эзрар. - Да знаете ли вы, что когда мы ликвидировали дела старого человечества, то оказалось, что алчность людская накопила такие невероятные количества золота и серебра, что мы решительно не знали, что с этим предпринять. Тогда же употребили мы часть этих запасов на выделку вот этих ваз и кубков, а также некоторых украшений для наших красавиц, которые, впрочем, мало их ценят, предпочитая золоту цветы, а остальное так и лежит целыми грудами в разных частях земли без всякого употребления. Как видите, роскоши тут никакой нет: это отбросы старой цивилизации.
В это время опять появились рабы с блюдами, на которых лежало что-то завернутое в листья.
- Это, - объяснил мне Эзрар, - морские рыбы, которых мы приготовляем по особому способу: их завертывают в листья и кладут в вырытые в земле ямы, наполненный горячим песком, где они и пропекаются, приобретая вследствие этого необыкновенную сочность и приятный вкус. Мы заимствовали этот способ приготовления у несчастных таитян, наших предшественников на здешних островах.
- Почему же несчастных? - спросил я.
- Ах, мой друг, каждый раз, как я вспоминаю о них, мне невольно становится грустно. Какой это был милый, симпатичный народ! как близко сумели они подойти к истинному счастью. И увы! как печальна была их судьба: достаточно было какого-нибудь полвека соприкосновения их с вашей цивилизацией и культурой, чтобы этот нежный и изящный тропическийцветок, развившийся здесь на свободе, завял и погиб бесследно ...
Опять заиграла музыка - легкая, приятная, радостная. Убравши листья, служившие тарелками, и заменив их новыми, рабы принесли опять блюда: на них красовались те птицы, которых мы видели жарящимися перед очагами и которые оказались индейками, начиненными кокосовыми орехами. Конец обеда состоял из плодов, лежавших перед нами. Три красавицы, возлегавшие за нашим столом, объясняли мне названия плодов, предлагая мне попробовать то того, то другого; все они были необыкновенно вкусны и ароматны.
Музыка, с перерывами во время перемены блюд, все время не переставала играть.
- Сегодня, - заметил мне Эзрар, - обед наш немного сложнее обыкновенного, мы прибавили одно лишнее блюдо в честь нашего дорогого гостя. Я знаю, в ваше время угощали обедами, состоявшими из десяти и более перемен, но такие тонкости для нас недоступны. Впрочем, будет еще кофе, который однако мы предпочитаем пить на берегу моря; хотите, мы и вас поведем туда?
Но я не отвечал ему, я едва слышал, что он говорит. Обед был без вина, но я был опьянен! Опьянен обилием впечатлений, обилием красоты - опьянен зрением, обонянием, слухом... Нет, мой бедный мозг, больной мозг человека XIX века не мог выдержать такого натиска красоты, я почувствовал себя усталым, изнеможенным и заметил это Эзрару.
Он тотчас же взял меня под руку и повел в свою палатку, где и уложил на постель из мха, покрытого циновками.
- Полежите здесь, я сейчас вернусь, сказал он и поспешно вышел.
Несколько минут спустя он вернулся с кубком душистого кофе, который я выпил с удовольствием.
- А теперь, - сказал он, - полежите спокойно, отдохните и, если можете, постарайтесь заснуть.
И с этими словами он удалился.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Глава I
На следующее утро я проснулся поздно. Солнце стояло уже высоко, Эзрара в палатке не было, и хотя кругом все было тихо и безмолвно, но чувствовалось какое-то неопределенное, сдержанное движение. Я быстро встал и вышел из палатки. Несколько друзей, увидев меня, подбежали ко мне и, поздоровавшись, спросили, хорошо ли я спал и не желаю ли пойти обмыться, предлагая провести меня к ручейку, куда мы и направились. Один из них побежал в шатер сообщить Эзрару, что я проснулся. Он тотчас же вышел, догнал нас, и мы с ним крепко обнялись и поцеловались. Умывшись и освежившись, я пошел со всеми завтракать в шатер. Оказалось, что завтрак уже кончился, что друзья, чтобы не разбудить меня, проснулись сегодня без музыки, и теперь большинство их находится уже на берегу моря.
- Ну, как вы себя сегодня чувствуете? - спросил меня Эзрар, когда я несколько утолил свой голод.
- О, я в самом веселом и радостном настроении духа, -ответил я, - мне только жаль, что из-за меня вы лишились удовольствия лишний раз услышать музыку, тем более жаль, что, как я вижу, вы культивируете это искусство с особенною любовью. -
Да, музыка - это даже единственное искусство, которое мы культивируем или, вернее, которое мы сохранили от прежних веков. Живопись нам не нужна - посмотрите среди какой чудной, поэтической природы мы живем! наше жилище - этот остров - сплошь украшено картинами, и какими! Скульптура тоже нам не нужна, мы окружены живыми античными статуями, обладающими еще тем, чем не обладала ни одна из статуй древности, - грацией движений, и посмотрите, в какой нежно-розовый цвет окрашены наши статуи, какой у них блеск в глазах, какие коралловые у них губы, - это и статуи, и картины в одно и то же время. Архитектура нужна нам еще менее, так как мы живем в простых палатках. Мы пользуемся в полной мере красотами цветов и форм, мы живем как бы в художественном музее, творения которого созданы одним только, но великим художником - природой. Единственное, чего природа нам не дает, - это сочетания звуков, музыки, и потому мы ее храним и действительно очень любим. Наши друзья - большие любители музыки, они охотно ее слушают и сами хорошо поют.
- И есть у вас хорошие композиторы?
- Композиторы? - с изумлением повторил он. Нет, мы совсем не сочиняем музыки.
- Почему же?
- По очень простой причине: ее перестали сочинять уже три века тому назад, ибо за все время, как культивировалась серьезная музыка, от XVIII до XXV веков бесчисленными композиторами воспроизведены были все комбинации звуков, какие только возможны, так что под конец что бы ни сочинялось, все оказывалось после тщательного сравнения повторением старого, и все это можно было найти почти без изменения в сочинениях того или другого из прежних композиторов. И потом, не забудьте еще одного: музыки, и притом хорошей, первоклассной, создано так много, что не хватило бы жизни человеческой, чтобы всею ею воспользоваться. По вычислению одного писателя XXV века для того, чтобы прослушать всю тогдашнюю хорошую только музыку, слушая притом по 5 часов в сутки, нужно употребить около 100 лет! Наши друзья хотя и наслаждаются ею каждый день, тем не менее в течение своей жизни они не успевают познакомиться со многими самыми отборными произведениями. Создавать еще музыку - это значило бы увеличивать ту долю, которая остается без употребления.
- Допустим, что это так, - заметил я, - но ведь можно было бы сочинять ради наслаждения, доставляемого творчеством.
- Да, но это наслаждение слишком дорогостоящее. Вы забываете, как трудно дается такое творчество. Ведь не может же доставлять удовольствие сочинение чего-нибудь ординарного, худшего, чем то, что мы привыкли слышать ежедневно, а для того, чтобы создать что-нибудь не ниже хороших вещей, уже созданных, нужно трудиться с юных лет неустанно, целые дни проводить в изучении теории, в практике, одним словом, всецело посвятить свою жизнь одному этому делу, превратиться в специалиста, то есть изуродовать свою природу. Чтобы достигнуть наслаждения творчеством, нужно потерять способность и возможность наслаждаться жизнью, солнцем, морем, весельем, а разве это желательно? Нет, никто из наших друзей не захочет жить так, как жили ваши несчастные специалисты, для нас важнее всяких радостей одностороннего творчества - радость жизни.
- Как это странно! - воскликнул я. - Но я надеюсь, что вы сохранили, по крайней мере, поэзию и изящную литературу.
- Из поэзии у нас сохранились только кое-какие песни и сказки.
- О Боже! как же мало осталось у вас от прежнего искусства, - с грустью заметил я. А сколько великих порывов духа некогда было потрачено на это человечеством! Печально подумать об этом ... Но, быть может, вы в большей степени культивируете науки? Ведь не отказались же вы, надеюсь, от чудного наслаждения, доставляемого научным творчеством?
- Все, что я сказал относительно искусства, всецело вы можете применить и к науке. Ведь творить в науке так же трудно, как и в области искусства, если даже не труднее, и тут для этого нужна долгая и сложная подготовка, особенно теперь. Чтобы испытать минуту наслаждения от вновь открытой истины, которая, к тому же, окажется, вероятно, только позабытой, пришлось бы приложить столько тяжелых усилии, что труд не окупился бы достигнутым результатом, а жизнь между тем будет уходить среди этих усилий, она будет портиться, ее даже не может и быть тогда в настоящем значении, в смысле радости бытия. Ведь жизнь ваших специалистов была не более как каким-то обрывком жизни. Да и дело творчества стало теперь неизмеримо труднее, чем прежде. В ваше время создавать что-нибудь новое в науке было ещё сравнительно легко, но с тех пор все области знания разработаны были с таким совершенством и полнотой, до такой мелочности, что сделать малейшее открытие стало почти невозможным. Не оставалось ведь пяди земли, которая не была бы изучена во всевозможных отношениях, не было того года, того почти что дня в истории человечества, который не имел бы своего подробнейшего описания. Все, что микроскоп, телескоп, спектроскоп могли показать, было усмотрено и занесено в летописи науки, все выводы и обобщения, на какие ум человеческий был только способен, были сделаны. Малейший, ничтожнейший факт в науке обладал тогда обширнейшей литературой, считавшейся тысячами сочинений, библиотеки ломились от миллионов и миллионов книг, ничтожнейшей доли которых не в состоянии был бы одолеть ни один человеческий ум. Это было что-то ужасное, чудовищное, уродливое! Ваша наука была не более как лепетом ребенка в сравнении с тем, чем она стала потом. В ваше время ученый смело брался, полагаясь только на свои единичные силы, за изучение какой-нибудь группы животных или растений, под конец же, чтобы изучить один только какой-нибудь орган, ученые должны были собираться целыми обществами, целыми многочисленными комиссиями из нескольких десятков специалистов. Я помню, когда я вместе с несколькими другими покровителями посетил однажды из любопытства знаменитые местности Европы, то в одной библиотеке Парижа, теперь совершенно пустынного, полуразвалившегося города, мне случайно попалось сочинение о человеческом глазе: оно состояло из 22 толстых томов и написано было 107 специалистами, из которых каждый, как было видно из предисловия, знал только свой отдел. Я видел там руководство по химии, состоявшее из 350 томов, и, если не ошибаюсь, то было еще только элементарное руководство; над ним работало более 300 ученых! Дробление науки дошло до невероятных размеров. Существовала, например, особая наука: статистика чувств, - и в ней были специалисты по статистике альтруистических чувств, знавшие только эту область, и вы думаете всю ее вообще? О нет, только в отношении какого-нибудь века, например XXIII века; для статистики альтруистических чувств XXIV века существовали свои особые специалисты. Благодаря такой раздробленности науки и неизбежной вследствие ее объема специализаций, сами ученые стали величайшими невеждами. Наука под конец переросла саму себя, переросла человеческий ум, она сама себя разрушала своими чудовищными размерами и, вместо того чтобы испускать свет, стала бросать тень. И тогда уже не было смысла творить что-нибудь новое, ибо большая часть знаний и без того лежала втуне, без всякого употребления на пыльных полках библиотек и забывалась; знания забывались даже быстрее, чем они успевали накопляться вновь. Были истины, которые открывались и забывались по несколько десятков раз. Поэтому уже в конце XXV века ученые пришли к убеждению, что дальше развивать науку невозможно, знание дошло почти до своих пределов, дальше было идти некуда, и потому стали ограничиваться только познаванием уже достигнутого. Но и это познавание могло быть только крайне ограниченным, ни один человеческий ум не в состоянии был даже при величайшем трудолюбии овладеть хотя бы поверхностно главнейшими истинами одной только науки.
- И после всего этого вы нас еще спрашиваете, предаемся ли мы научному творчеству!
- Ну что ж, и пускай творчество будет не чем иным, как повторением старого! но самый процесс этот так высок и благороден, это такой красивый цветок умственной жизни, что вам, которые так любите цветы, следовало бы его культивировать.
- Да ради чего? Зачем нам культивировать этот искусственный цветок, с таким трудом произрастающий и доступный лишь немногим, когда у нас такая масса цветков, так легко достижимых, так сказать, дикорастущих и всем доступных? Мало разве у нас радостей и забав? Нет, мы не хотим наслаждений, покупаемых слишком дорогой ценой.
- Ах нет, Эзрар, не могу я этому поверить. Я убежден, что этот цветок сам собой должен у вас распускаться, невольно, неудержимо. Ведь есть же у вас школы, обучаются же ваши друзья наукам, и тогда невольно должны у них появляться порывы творчества. Что же, неужели вы их тогда намеренно подавляете?
Эзрар опять посмотрел на меня своим уже мне знакомым загадочным взглядом, вызывавшим во мне невольное смущение, и опять на лице его заиграла странная, несколько насмешливая улыбка.
- Мой друг, - промолвил он, - вы нас еще не совсем понимаете, и я вас, вероятно, сильно удивлю, боюсь даже огорчу, когда скажу, что у нас нет никаких школ, кроме одной-школы жизни, более того, наши люди - безграмотны: они не умеют ни читать, ни писать.
- О! - воскликнул я в смущении, - это уже слишком!
Неожиданное открытие это действительно глубоко меня смутило, оно нарушало все мои с молоком матери всосанные понятия... Признаюсь, что в эту минуту мое уважение, мои симпатии к новым людям сильно поколебались. Что это за люди, думалось мне, у которых нет образования, нет науки, у которых потух светоч знания - этот величайший из кумиров, которым мы поклонялись. Все готовы были мы отрицать, во всем могли мы сомневаться, но в пользе просвещения никогда и никто из нас серьезно не сомневался.
- Это вас поражает? - спросил он меня.
- Не только поражает, но и ужасает! Страшно становится, когда подумаешь, сколько невероятных усилий и тяжелых жертв стоили людям завоевания науки, сколько тысячелетий человечество добивалось знаний, и что же? вся эта гигантская работа оказалась совершенно напрасной, бесцельной. Подумайте, как это ужасно звучит: напрасно, бесцельно! К чему привели все эти усилия: к невежеству, даже к безграмотности! Одно это может внушить сожаление о минувших временах. Пускай человечество наше было глубоко несчастно, гадко, преступно, но оно сумело построить чудное здание - храм науки, такой неимоверной красоты, что из-за одного этого можно примириться со всеми его недостатками и многое ему простить. Ах, Эзрар, знаете ли вы, какой это был чудный храм, в мое время по крайней мере? Величественный, грандиозный, необъятный в своих размерах и весь такой лучезарный и прозрачный, как хрусталь, и как великолепно и с какою любовью он был украшен изнутри и снаружи, какими красивыми арабесками, сверкавшими золотом и всеми цветами радуги, и как в этом храме было светло и просторно, как отрадно, тихо и радостно чувствовалось, войдя в него, сколько счастья давал он людям, с должным трепетом переступавшим через его порог. Ничего другого подобного человечество никогда не создавало...
- Да, - ответил Эзрар, - в ваше время храм науки был моложе и потому красивее и стройнее, он еще не был загроможден многочисленными пристройками, которые его потом так изуродовали, среди которых он под конец даже совершенно скрьшся. Но и он ведь был болезненным продуктом вашей цивилизации, без которой не мог бы ни возникнуть, ни существовать, а эта цивилизация исключала истинное счастье, и она принесла людям столько горя, что наше сердце не лежит к этому храму. Да и чем он был в сущности - убежищем для чистых душ, гнушавшихся мирской грязи! Неудовлетворенность действительной жизнью, если не прямое горе - вот что гнало туда одних людей, как других это же самое гнало в иной храм - храм божества. Истинно счастливые и жизнерадостные люди ни в тот, ни в другой ведь не входили.
- Может быть, вы и правы, - сказал я, - но неужели все-таки вам не жаль было потерять его. Ах, Эзрар, гак все это грустно...
- Что делать, мой друг, - ответил он. - Мало ли человеческих усилий потрачено было даром и в других областях: все подвиги самоотвержения, все великие художественные произведения, все технические открытия, все богатства, все золото и серебро, все пышные здания, целые города - все это пропало даром, все лежит теперь погребенным, мертвым, заросшим терниями и сорными травами. Все это бьшо ненужное для человека, для его счастья на земле и как ненужное неизбежно должно было погибнуть. Самый ум человеческий в таких чудовищных размерах, до каких он дорос, был не нужен. Светоч ума, сначала умеренно горевший на земле и тогда согревавший человечество, под конец так сильно разгорелся, что он должен был не только сам себя спалить, но угрожал испепелить вместе с собой и все человечество, и он неизбежно сжег бы его, если бы мы вовремя не потушили его. Но он неизбежно потух бы и сам собой.
Впрочем, не все жертвы, не все усилия ума были напрасны, и вы уже знаете, что кое-какими завоеваниями науки и мы воспользовались и обязаны им своим теперешним счастьем. Без искусственного подбора, без знания законов наследственности, а главное, без грандиозного опыта, доказавшего, что никакой ум, никакое знание не могут дать людям счастья, - мы бы не жили, как теперь живем. Вы не правы, следовательно, говоря, что усилия минувших веков пропали бесследно, что они ни к чему не привели: они привели к весьма важному - к счастью. Да не совсем потух и самый светоч знания. Мы, покровители, все-таки учимся читать и писать,знакомимся и с элементами естественных наук и с историей, знаем немного и математики. Да и друзья наши кое-чему от нас научаются. Но они знают только то, что мы им рассказываем о мире, его законах, о прошлом человечества, и только постольку, поскольку это их интересует. Они, впрочем, предпочитают играть и веселиться, и мы их в этом поддерживаем: слишком большая потребность знания была болезнью вашего и последующих веков и большая образованность вовсе не нужна для счастья человека.
- Однако, - заметил я, - вы ужасно упростили жизнь.
- Да! - воскликнул как-то особенно торжественно старик, и вы сказали слова глубокого значения! Упрощение жизни - это один из основных наших догматов; только при этом условии возможна счастливая жизнь на земле! Мы допускаем все радости, все наслаждения жизни, кроме тех, которые требуют больших усложнений. А подумайте, с какими ужасными усложнениями связана была ваша наука. Наука и вместе с нею цивилизация со всеми ее ужасами, или ни та, ни другая - вот что предстояло нам выбрать, и мы избрали последнее.
- И теперешние люди довольствуются этим? - спросил я, и они не жаждут знания, не требуют его сами от вас? Неужели вам удалось сковать гордый ум человеческий, некогда паривший так высоко? Неужели никто из них не пытается создать что-нибудь в области науки или искусства?
- А вот, посмотрите сами, - ответил старик и, обратившись к одной молодой женщине, спросил ее:
- Стелла, скажи мне, хотела бы ты сочинять такую музыку, какую мы слышим?
- Да ведь это должно быть очень трудно, - ответила она.
- Да, для этого нужно каждый день и целый день все учиться и учиться.
- Нет, - живо ответила она, - спасибо, а когда же я буду играть, купаться, гулять? Я лучше хочу целый день веселиться.
- Милая Стелла, - обратился я к ней с вопросом, - неужели вам не надоест каждый день все играть и веселиться?
- Надоест? - спросила она с удивлением. - То есть к вечеру я устаю, это правда, но утром я просыпаюсь бодрой и мне опять хочется играть и веселиться. А вам разве не надоест каждый день все есть да есть? - спросила она, лукаво улыбаясь.
И, сказав это, она сделала шаг по направлению ко мне с грациозным свободным движением руки и, слегка наклонив свою прелестную головку, стала глядеть на меня с вызывающей улыбкой.
Я не знал, что ответить, смущенный и ее вопросом и еще более изящной грацией и красотой, которыми дышала вся ее фигура...
- Ну, а ты, Эрос, - обратился старик к одному из молодых людей, - хотел бы ты сидеть целые дни за книгами и изучать природу и ее законы, чтобы проникнуть во все ее тайны?
-Я не понимаю, для чего это? Разве мы и без того не знаем все, что нужно? Знаем же мы, что такое земля, солнце, луна, звезды, как они движутся, отчего бывает день и ночь, знаем, как образовалась земля, как, благодаря нашему дорогому солнцу, постепенно развились на ней растения, животные, знаем, что люди прежде жили как звери, потом строили себе города, а когда стали учеными, то были очень несчастными и мучили друг друга всевозможными способами, как потом наши покровители все это изменили. Вероятно, можно узнать еще много подробностей, но на что они нам? Нет, я, как Стелла, предпочитаю лучше жить, как мы живем, так веселее.
- Правда, Акита? - обратился он к прелестной девушке, вероятно его маленькой женке.
Но Акита только засмеялась и бросила в него цветком, который она держала в руках, за ней бросила другая, третья, и скоро посыпался целый дождь цветов на юношу, побежавшего к выходу и преследуемого роем смеющихся красавиц.
- Когда нам это надоест, - заметила Стелла, - мы, может быть, сделаемся учеными. Но вряд ли это будет.
Все зааплодировали таким ответам, сознавая, что победа в нашем споре осталась на стороне покровителя и, видимо, радуясь этому.
Я посмотрел на Эзрара. Он глядел на меня с такой лукаво-доброй и умной улыбкой, которая проникала до глубины моего сердца; протянув мне руку, как бы в знак примирения, и пожимая мою, он промолвил:
- Вот истинно здоровое отношение к знанию.
При виде этой картины, полной оживления и красоты, при виде всех этих улыбок на прелестных лицах, сияющих таким ясным счастьем, улыбнулся и я, и показалось мне, что, быть может, и прав был Эзрар.
- Вы видите, - прибавил он, - что мы не так глупы, как это могло вам показаться. Наши друзья привыкли к спорам и дебатам, в дождливые дни мы много говорим и спорим о природе и ее законах. Они необразованны, но не глупы. Впрочем, они гораздо и образованнее, чем это было с большинством людей вашего века.
В это время среди друзей, все время толпившихся около нас, стало заметно какое-то движение, и взоры всех направились в один из углов шатра. Оттуда до нас доносились звуки всхлипывания, которые, все более и более усиливаясь, перешли, наконец, в громкие рыдания. Эзрар быстро встал и направился туда. Я пошел за ним, и нашему взору предстала странная, еще невиданная мною здесь картина: один из друзей, совсем еще юноша, почти мальчик, сидел на земле, закрывши лицо руками, опустивши голову на колени, и горько плакал. Около него собралась кучка мужчин и женщин ласкавших его, целовавших и всеми мерами старавшихся его успокоить и утешить.
- Что с тобой, Нолли, о чем ты плачешь? - спросил его Эзрар.
Но он ничего не отвечал, и только рыдания его еще более усилились. Тогда Эзрар поднял его с земли, повел к обрубку дерева, с которого я только что встал и, сев на него, посадил юношу к себе на колени. Нежно поглаживая его и прижимая его к своей груди, он стал расспрашивать о причине его горя. Наконец юноша, не переставая всхлипывать, заговорил прерывающимся от слез голосом:
- Я слышал все ... что говорил чужеземец... о знании и храме науки... и все понял ... я несчастный, ничего не знаю ... Я все хочу узнать ... Добрый покровитель, научи меня всему ... я хочу войти в этот чудный храм.
И он опять горько зарыдал.
- Так вот о чем ты плачешь, бедный мой мальчик! Тебя томит жажда знания, ты хочешь много знать, ты хочешь быть таким же ученым, как прежние люди. Но о чем же плакать, перестань, мой дорогой мальчик, мы это устроим, непременно устроим. Вот вернется другой наш покровитель, и мы тебя отвезем в такое место, где ты всему научишься. Слышишь? Успокойся же, Нолли, не плачь так.
Такими словами и еще более может быть нежными ласками Эзрару удалось, наконец, его успокоить и, подозвав нескольких друзей, он поручил им заняться бедным юношей и развлечь его, а мне предложил тотчас же пойти осмотреть деревню, в которой жили рабы. Некоторые из друзей захотели нам сопутствовать.
- Вы видели сейчас - объяснял мне Эзрар дорогой - печальное явление атавизма, возврата к предкам. Я давно уже подозревал в нем это несчастье: он часто подолгу сидит на берегу моря, задумавшись, задает такие вопросы, которые другим и в голову не приходят, он постоянно чувствует себя неудовлетворенным, все куда-то стремится; но только сегодня, под влиянием нашего разговора и особенно вашего красноречивого описания храма науки со всею ясностью сказалась в нем его болезнь.
- Болезнь? - спросил я с недоумением. - Но ведь это же благороднейшее стремление духа, душа его, очевидно, жаждет умственного простора...
- А мы, - перебил он меня, - считаем это болезнью и, увы! - неизлечимой. Мы ее называем гипертрофией духа. Теперь она, к счастью, реже появляется среди нас, чем прежде. Таких бедных людей, для которых уже нет более счастья на земли, мы спешим увозить из наших общин, так как они могли бы оказать вредное влияние на других; для них имеется на острове Пасхи особое поселение, там мы устроили им нечто вроде городка со всякими приспособлениями для научньгх и художественных занятий, навезли туда из Европы микроскопы, телескопы и всякие научные приборы, устроили им библиотеку, завели школу грамотности, и они живут там, как хотят, доживая свой век в сообществе нескольких покровителей, тоже не довольствующихся нашими порядками. И, увы! Нельзя сказать, чтобы их жизнь протекала там счастливо. Но их немного, всего около 300 человек, и так как все они стерилизованы - ибо грех было бы плодить такую болезнь, - новых членов прибывает все меньше и. меньше, то эта колония со временем, вероятно, и совсем исчезнет.
Какую-то грусть, тихую и нежную грусть навеяло на меня все, что я только что увидел, что я узнал сегодня. Такую тихую грусть должен испытывать путник, стоящий в пустынной, безжизненной местности перед развалинами какого-нибудь великого старинного юрода, в котором некогда ключом била жизнь, где совершались великие исторические события, процветали великие добродетели и великие пороки. И перед моим умственным взором тоже предстали сегодня развалины чего-то, может быть, и ненужного для людей, даже нежелательного, но несомненно великого, грандиозного и прекрасного.
Но такова была могучая сила лучезарной красоты окружавшей меня тропической природы, таково было захватывающее влияние жизнерадостности окружавших меня людей, что тихая грусть моя, подобно легкому облачку, быстро тающему под влиянием утренних лучей солнца, скоро стала ослабевать и, наконец, совсем рассеялась.
Глава II
Дорога шла сначала лесом, по которому мы подвигались медленно, поминутно останавливаясь перед каким-нибудь красивым растением, привлекавшем мое внимание, название которого мне тотчас спешили сообщить Геро или Геба. Молодежь пользовалась этими остановками, чтобы влезать на деревья, с которых уже потом долго не слезали, провожая нас, как стая обезьян, перескакивая с ветки на ветку и переходя таким образом с дерева на дерево. Не обошлось и тут без того, чтобы не украсить себя цветами, и вскоре у всех появились венки на голове. Как красивы были эти изящные фигуры мужчин и женщин в полутьме лесной чащи, и как рельефно выделялись их светлые тела, сверкая наготой своей на темном фоне зелени!
- Скажите, - обратился я к Эзрару, - почему эти две женщины, которые сейчас пробежали мимо нас, почти совсем прикрыты одеждой?
- Это из стыдливости.
- Как из стыдливости, - засмеялся я, - почти все женщины ходят у вас совершенно голыми, никто не скрывает даже самых сокровенных своих тайн, а вы говорите про стыдливость. Вы шутите?
- Нисколько, только понятие о стыдливости у нас совсем другое, чем было прежде. Наши друзья не стыдятся обнажать свое красивое тело, мы не понимаем даже, как можно скрывать от взоров столько красоты. Ведь красивое человеческое тело, особенно женское, есть одно из удивительнейших чудес природы, одно из поэтичнейших ее произведений, и неужели же природа создала такое совершенство для того, чтобы мы стыдились этого и прятали бы этот перл создания от наших взоров? Это было бы оскорблением природы. У нас стыдятся показывать только то, что некрасиво, уродливо. У наших друзей чувство изящного, чувство красоты так сильно развито, что всякое уродство болезненно на них действует, и вот, чтобы не возбудить в других, не скажу чувства отвращения - нет, это не то, - а скорее чувства жалости, всякий, кто имеет что-нибудь некрасивое в своем теле, старается прикрыть это от взоров постороннего. Одна из прошедших мимо нас женщин беременна, и потому она прикрылась легкой туникой, которая ловко это скрывает. Ведь вы, вероятно, даже и не заметили ее состояния?
- Правда, не заметил.
- А у другой вследствие родов испортилась форма грудей, они несколько повисли. Это большое несчастье, редко, впрочем, теперь случающееся, и она тоже драпируется в легкий шарфик, закрывающий ей грудь. Впрочем, во время игр она его сбрасывает. Но такой женщине мы уже родить не дадим, также как и ее ребенку. Вы, может быть, заметили еще у некоторых женщин узкие повязки вокруг бедер - они носят их в период регул.
- Но не опасаетесь ли вы, чтобы постоянный вид всей этой соблазнительной наготы действовал слишком возбуждающе на них и чтобы это не отразилось на их здоровье?
- Ах, - воскликнул Эзрар, - как в вашем вопросе сказывается человек XIX века, привыкший видеть все тело скрытым от подбородка и до пяток! Но знайте, что мы, ходящие нагими, гораздо целомудреннее вас, всегда так прилично одетых и всегда с такими неприличными мыслями под этой одеждой. Ведь все это так относительно и так зависит от привычки. Вспомните мусульман, разве они не считали неприличным для женщин показываться с обнаженным лицом, и когда они попадали в ваше общество, разве их не волновал вид всех этих открытых женских лиц, а тем более обнаженных рук и плеч на ваших балах, и разве вас, привыкших ко всему этому, оно не оставляло совершенно спокойными? Вы только любовались при встрече с красивым лицом его красотой. В таком же точно положении, находимся и мы: мы смотрим на все эти нагие тела и только любуемся их формами, и никакие посторонние мысли не примешиваются к этому чисто эстетическому наслаждению. Наш взор эти лучи только греют и ласкают, вас - они бы жгли и ослепляли.
И я обвел глазами группу молодых красавиц, поджидавших нас впереди, и действительно, лучи эти жгли и ослепляли меня...
- А отчего же вы одеты, - спросил я Эзрара?
Он остановился, повернулся ко мне и, распахнув свою тогу, показал мне свое старческое желтое, сморщенное тело с волосами на груди и на ногах.
Этот жест был красноречивее всякого объяснения.
Между тем, по мере того как мы подымались выше, растительность становилась все более и более редкой, и вскоре с вершины гребня, на который мы поднялись, открылась обширная равнина, вся залитая яркими лучами солнца, окаймленная с трех сторон горами, выделявшимися вдали своими прихотливыми синеватыми очертаниями; она сплошь была занята обработанными полями, разбитыми на правильные участки, с пестревшею на них разнообразною растительностью. Вдали, на берегу речки, протекавшей посредине равнины, под группой кокосовых пальм виднелись соломенные крыши многочисленных хижин, принадлежавших деревне, в которой обитали рабы. Несколько десятков их можно было видеть работающими на полях; одни с заступами в руках, согнув свои широкие спины, копались в земли, другие с корзинами на плечах разносили навоз, третьи собирали уже созревшую жатву.
Я остановился перед этой веселой картиной, полной жизни и света, развернувшейся перед нами, и несколько минут простоял перед ней молча, любуясь и слушая объяснения Эзрара.
- Вот, - пояснил он мне, - на правом берегу речки, на заливных местах тянутся участки, засеянные рисом, по левому расположена роща бананов, далее идут поля иньянов или таро и небольшой участок сахарного тростника, повыше на площадке - кофейная плантация. Границы отдельных участков обсажены всевозможными плодовыми деревьями, апельсинными, хлебными, бананами и другими тропическими породами.
Чтобы добраться до деревни, нам пришлось пройти через один из участков, самый обширный из всех, на котором росло какое-то странное растение без листьев, имевшее вид низеньких кустиков и все состоявшее из одних только тонких зеленых прутиков, сплошь увешанных стручьями; оно напоминало в малых размерах безлистное растение Spartium junceum.
- Это особая порода бобов, - объяснил мне Эзрар, - которая вместе с горохом составляет главную пищу наших рабов, коров и птиц. Как видите, эта порода почти совсем лишена листьев, превращенных в едва заметные чешуйки, и с очень незначительными стеблями. Вся сила растения, все питание, извлекаемое из почвы, направляется на производство стручьев, а бесполезные части, отбросы доведены до минимума. В этом направлении - возможного уменьшения отбросов, без всякой пользы истощающих почву, - улучшены были некогда все породы огородных и хлебных растений.
Но вот и самая деревня. Хижины или, вернее, шалаши, маленькие и низенькие, построены были самым примитивным образом из нескольких жердей, покрытых соломой и сухими листьями. Между ними росли кокосовые и другие пальмы, разнообразные деревья и кусты преимущественно плодовые, и это обилие растительности придавало деревне, несмотря на всю невзрачность ее хижин, очень живописный и уютный вид: казалось мы попали в сад. Мы шли по кварталу, жители которого находились все на работе в полях, и потому до сих пор не встретили никого из них; но вот послышались крики и веселый детский смех и, свернув в сторону, мы увидели перед собой навес и под ним группу рабынь, занимавшихся плетением рыболовных сетей; их окружали дети, которые тут же играли или помогали в работе своим матерям. При виде нас все как будто обрадовались, их некрасивые скуластые лица расплылись в широкие улыбки; женщины тотчас же оставили свою работу, бросились на колени и, подняв руки кверху, пали перед нами ниц. Дети, глядя на них, старались во всем им подражать.
- Не подумайте, - заметил мне Эзрар, - что это мы их научили оказывать нам такие почести. Насколько я себя помню, они всегда выражали нам свою преданность в такой форме; в этом поклонении совершенно естественно выливаются их чувства к нам. Очевидно, они считают нас какими-то высшими, сверхъестественными существами.
Он подошел к группе детей и погладил их по головкам, дети радостно улыбнулись своими широкими ротиками и, схвативши его руку, стали лизать ее. Не знаю почему, но этот поступок их как-то болезненно кольнул мое сердце. Явно было, однако, что не страх, а чисто животная преданность, преданность хорошей любящей собаки лежала в основе чувств этих столь непонятных для меня существ.
- Пойдемте, я вам покажу теперь нашу ферму, - обратился ко мне Эзрар.
Мы подошли к длинному навесу с подразделениями в виде стойл, и в каждом из них лежало какое-то странное, совсем мне неизвестное животное. Туловище их, очень незначительное и узкое спереди, сильно расширялось к заду, голова и ноги были непропорционально малы, особенно малы и тонки были передние ноги, на которых некоторые из этих животных стояли, приподняв переднюю половину своего тела; чуть не треть всего животного составляло огромное вымя.
- Это наши коровы, - объяснил мне Эзрар, и это тоже одно из позднейших произведений прежней цивилизации, полученных путем искусственного подбора и при помощи искусственного оплодотворения. Как видите, все, что ненужно для целей получения молока, доведено у них до минимума; голова, как у теленка, рогов нет, мускулы у них почти отсутствуют, кости необыкновенно тонки, конечности атрофированы, они не могут уже ходить, а только ползают, приподнявшись на передние ноги, большею же частью лежат неподвижно. Эта порода дает необыкновенно много молока, а ест сравнительно мало, зато почти всю пищу, состоящую из бобов и гороха, превращает в молоко, даже навоза они дают очень мало.
Он велел одному из рабов, которые в это время занимались кормлением коров, привести быка, и я, к своему удивлению, увидел какое-то животное величиною не более козла, тонкое, сухопарое - это и был их бык.
- Мы их держим исключительно для оплодотворения, ибо из животных мы употребляем в пищу только птиц, овец и свиней, и так как мы применяем искусственное оплодотворение, то одного такого быка хватает не только на наших восемь коров, но он служит еще и нашим соседям. На весь архипелаг Таити имеется всего лишь два быка. Благодаря всему этому, молоко обходится нам очень дешево, а это один из основных пищевых продуктов наших.
- Не сомневаюсь, - сказал я, - что ваши коровы очень экономичны, но уверяю вас, что наши были гораздо красивее. Это - какие-то уроды.
- Да, - заметил Эзрар, - удивительно, как легко природа и ее произведения обезображиваются от прикосновения к ним руки человеческой. Эти коровы являются одним из продуктов людской алчности. Мы сами никогда бы не произвели таких уродов, но раз они существовали, то мы их и сохранили, тем более, что они никогда не попадаются нам на глаза.
Проходя дальше, мы всюду встречали группы рабов или рабынь, занимавшихся какой-нибудь работой; здесь лепили горшки, там плели циновки, еще далее из кожи вырезали сандалии или ремни, и всюду нас встречали радостными улыбками и земными поклонами. Поминутно попадались нам по дороге разнообразные домашние птицы: индюки, гуси, фазаны, куры каких-то необыкновенно гигантских размеров, в одном огороженном месте мы увидели небольшое стадо овец; и всюду растительность, всюду деревья с зреющими на них плодами. Довольством, миром и тишиной веяло от этой деревни. - Выйдя на ее окраину и пройдя мимо грядок с овощами, устроенных возле речки, в которой шумно и весело плескались ребятишки, мы направились домой.
- Меня удивляет, - заметил я Эзрару, - как вы справляетесь с такой массой рабов, когда вас, покровителей, так мало. Ведь их здесь, я думаю, более сотни.
- Их даже около 200. Мы считаем, что на каждого из друзей нужны, смотря по местности, от полутора до двух рабов, только тогда все идет хорошо и без лишнего утомления для последних. Но они почти не нуждаются в надзоре, все идет по раз заведенному порядку, и так как инстинкт подражания развит у них очень сильно, то дети, глядя на отцов и матерей, с малолетства сами научаются всем работам, в сущности, очень несложным. Да и каждая группа рабов знает только одно свое специальное дело, и, занимаясь из поколения в поколение только им одним, они достигают большой ловкости в работе; знание своего дела перешло у них как бы в инстинкт, и самое дело стало для них положительною необходимостью. Отнимите у них свойственную каждому работу - и они будут чувствовать себя несчастнейшими существами.
- А знаете, Эзрар, - сказал я, - ваши рабы мне ужасно напоминают пчел и муравьев.
- Да, - ответил он, - они на них похожи во многих отношениях. Труд для них так же легок и приятен, как и для этих насекомых.
Разговаривая таким образом, мы дошли до границы полей. Вдруг откуда-то пахнуло на меня сильным и необыкновенно приятным ароматом, и я увидел перед собой несколько участков с пестревшими на них цветами всевозможных оттенков, в том числе были и те, которых я принял вчера за бабочек.
- Это что такое? - спросил я.
- Это цветочные плантации, - ответил Эзрар. Наша потребность в цветах так велика, что тех, которые разводятся около наших жилищ, было бы далеко недостаточно для нас, поэтому мы отвели несколько участков специально под цветы.
Двое рабов с корзинами в руках как раз собирали в это время цветы к обеду; наши друзья тотчас же кинулись к ним, выхватили у них из рук корзины и сами принялись срывать цветы; дело живо закипело, и в один миг корзины были наполнены. Лорелей с букетиком отборнейших цветов в руке подбежала к нам и, остановившись передо мною, подала его мне; при этом она пристально на меня посмотрела, улыбка озарила все ее прелестное лицо и вдруг, вся вспыхнув, она повернулась и убежала.
- Ого! - проговорил Эзрар, поглядывая на меня с многозначительной улыбкой, - поздравляю вас!
- С чем?
- Как, разве вы не заметили, с какою благосклонностью на вас посмотрела Лорелей и как она вся покраснела, подавая вам этот букет? А знаете ли вы, что означает у нас такое поднесение цветов? Это означает, что она чувствует к вам особую симпатию и готова сблизиться с вами. Я, впрочем, еще вчера заметил, что вы ей понравились, она ведь все время не отходила от вас. Очевидно, вы ей внушили жалость к себе, а пожалев, она вас полюбила. Поздравляю вас с сердечной победой и радуюсь за вас. Лорелей теперь как раз такая временная одиночка, о которых я говорил вам вчера утром, и она, несомненно, одно из прелестнейших и добрейших созданий наших.
Какая-то волна радости и счастья вдруг нахлынула на меня и охватила все мое существо, сердце затрепетало в моей груди, весь мир, все что меня окружало показалось мне вдруг как-то еще более светлым, лучезарным и жизнерадостным; мне стало так весело и хорошо на душе, такой порыв всеобщей любви наполнил мое сердце, что я готов был обнять всех этих добрых, милых, теперь еще более мне дорогих людей и в одном могучем объятии прижать их к своей груди. В порыве братской любви бросился я к Эзрару и с криком: о, неужели я буду счастлив! крепко его обнял и, прижавшись к нему, чтобы скрыть свое смущение, на минуту слился душой с его душою, и от избытка чувств, всего меня охвативших, я затрепетал и заплакал...
Эзрар, держа меня в своих объятиях и поглаживая мою голову, ласково успокаивал меня, говоря:
- Бедный, измученный человек, вы даже радость выражаете слезами; но мы вас переделаем, мы заставим вас забыть, что такое слезы, даже слезы радости. Раз судьба закинула вас к нам, живите у нас полной, счастливой жизнью, наслаждайтесь всем, что жизнь может дать людям, любите и забудьте навсегда все ваши горести и страдания. Бремя это мы с вас снимаем.
Успокоенный такими словами Эзрара, я уже опять улыбался, и мы пошли дальше, рука в руку, а впереди меня неслись легкие, радужные образы - мечты об ожидавшем меня, быть может, счастье. В таком настроении вернулись мы домой и как раз подоспели к обеду. Он прошел при той же обстановке и так же весело и оживленно, как и вчера, для меня же - еще много радостнее, чем вчера...
Глава III
После обеда все отправились на берег моря, и здесь, усевшись в тени нависшего над нами берега, мы предались послеобеденному отдыху, попивая ароматный кофе с соком сахарного тростника вместо сахара. Но друзьям не сиделось долго на месте, и как только я выпил свой кофе, они тотчас же повели меня показывать собрание раковин, сушеных морских звезд, кораллов и других морских произведений, разложенных на самом берегу моря, на песчаной отмели в виде красивых групп и узоров. Это было очень мило устроено - настоящий маленький музей на открытом воздухе! И каких только тут не было пород раковин, и сколько бесконечного разнообразия, красоты, даже поэзии природа сумела вложить в эти комки извести! Я с удовольствием любовался ими, ибо всегда находил в них какую-то особенную, таинственную прелесть, от них всегда веяло на меня ароматом моря и юга, а что может быть таинственнее и прелестнее для северянина тех чудных образов, которые связаны с этими двумя словами: море и юг!
- Наши друзья, - заметил мне Эзрар, - в последнее время положительно помешались на раковинах, каждая община старается перещеголять соседние своим собранием их, обилием видов и красотою экземпляров.
После этого осмотра мы с Эзраром опять улеглись на песок в тени, а друзья принялись барахтаться в воде, плавать в перегонку, нырять, доставая со дна всевозможных морских животных. Когда они уставали, то выходили отдыхать на ближайшие скалы, своими верхушками выступавшие из воды, располагаясь на них изящными группами. Со своего места я свободно мог созерцать все их игры и забавы и любоваться всей этой очаровательной красотой. Голубое небо, синее море, красивые очертания берегов и эти голые тела - все это вместе было так непривычно, так дико красиво, что по временам сознание действительности как будто ускользало от меня и мне начинало казаться, что это сон, а не действительность, или что я перенесен сюда силой какого-нибудь волшебства и что рередо мною не люди, а какие-то фантастические морские существа, какие- то нереиды, поднявшиеся со дна морского, чтобы очаровывать мой взор...
И как жаль, думалось мне, что на земле так мало этих счастливых и прелестных созданий - всего только 2 миллиона! А ведь под тропиками свободно могло бы поместиться много десятков миллионов. И я высказал эту мысль Эзрару.
- Мы ведь не успели еще размножиться, - ответил он, - и я думаю, что со временем человечество дойдет до 5 или 6 миллионов, а может быть, и больше, если позволит место. Ведь земля как место обитания гораздо гаже, чем вы думаете, истинно удобных и красивых мест для жительства очень немного. А нам непременно нужна и красота местожительства, ибо от этого много зависит жизнерадостность настроения. Впрочем, никогда мы не размножимся в очень значительной степени. Мы боимся слишком большой густоты населения, слишком тесной общественности, ибо она, так же как и доступность и быстрота сообщений, больше всего способствует и вызывает всякую цивилизацию и прогресс, от которых мы с таким трудом отделались.
- О, отделались! - воскликнул я, - как это странно звучит для меня, человека XIX века, на знамени которого такими крупными буквами стояло именно: прогресс и цивилизация!
-А на нашем знамени стоит еще более крупными буквами: счастье и счастье! Вы имели много прогресса, но мало счастья; у нас же наоборот. И так как приходится выбирать между счастьем без прогресса и прогрессом без счастья, то мы выбрали первое. Оба они несовместимы, и потому для нас прогресс совсем не нужен.
Эти слова меня несказанно поразили. Что слышу я? Им не нужен прогресс! да разве может человечество существовать без него. О Эзрар! подумал я, неужели ты хочешь разбить и этот кумир мой? Но нет, этого тебе не удастся, за него я буду крепко держаться! Если и его разбить, то чему же поклоняться? ... И вдруг я вспомнил когда-то мною прочитанную статью, в которой какой-то критик разбирал книгу о народном образовании. В этой книге автор выражал сожаление о том, что вместе с образованием в народ проникает недовольство своим положением, всю тягость которого он начинает тогда яснее сознавать, чем прежде, и от этого страдания его только усиливаются. Но это-то и хорошо, восклицал критик, такое усиление страдания и желательно, ибо оно-то и является залогом прогресса. Помнится, как и тогда меня смутило это странное рассуждение прогрессиста, ибо если прогресс должен быть вечным, беспредельным, то остается только желать вечного недовольства своим положением, вечного страдания. Но только теперь понял я все безобразие и в то же время всю безукоризненную логичность этого рассуждения. И это меня смутило... Что же это значит? Неужели прав Эзрар, неужели приходится выбирать между счастьем без прогресса и прогрессом без счастья? И что же тогда выбрать, что лучше?
О, бедный мой кумир! Ты еще не разбит, но я уже вижу в тебе глубокую, зловещую трещину!
Но Эзрар продолжал:
- Один из основных принципов наших состоит в том, что человечество может обеспечить свое счастье навсегда только при том условии, если оно сохранит неизменным на вечные времена свое теперешнее устройство и откажется от всякого прогресса в этом отношении. Всего, что грозит усложнить или изменить нашу жизнь, хотя бы под предлогом ее улучшения, мы тщательно избегаем. А густота населения может именно повести к разным усложнениям.
- Я этого не совсем понимаю.
- Вы лучше это поймете на частном примере. Наши друзья все страстные любители моря и безусловно предпочитают жить на побережье, чем внутри страны; без моря они положительно не могут обойтись, скучают вдали от него. Ведь половину дня проводят они в нем, купаясь, плавая, устраивая разные игры, даже дети постоянно около него, собирая ракушки и т. п. В этом отношении наших людей можно было бы назвать амфибиями. Да и на побережьях мы выбираем для поселений только наиболее удобные, а главное - наиболее поэтичные и красивые места. Пока нас мало, мы друг друга в этом отношении не можем стеснять. Но вот что случилось недавно на одном из маленьких островов Таити, и что вам покажет, как мы правы в этом отношении. Вследствие некоторых причин три общины, живущие там, разрослись, и пришлось из избытка людей образовать четвертую, и так как на берегу моря не было удобного места для поселения, то пришлось устроить его внутри острова. Но тут-то и вышло затруднение: никто не хотел уходить с побережья внутрь; те, которых для этого выбрали покровители, сочли себя обиженными, появились неудовольствия и раздоры, и пришлось вновь образованную общину перевести на другой остров и там поселить ее на берегу. Теперь, например, ближайшая от нас община находится на расстоянии нескольких часов пути; поэтому мы только изредка видимся с ее членами, и каждый раз и мы очень рады гостям, и нам рады, и никаких ссор не бывает. А живи мы близко, тесно, и кто знает, что с течением времени из этого бы вышло, несмотря на всю мягкость и незлобивость наших друзей. Наконец, если значительно увеличить население, то придется увеличить и число рабов, и число наших фабрик и кораблей, а это явится большим усложнением; но вы уже знаете, что мы всеми мерами избегаем усложнять жизнь.
- Как фабрики?! Неужели у вас есть и фабрики, и корабли? значит, есть и рабочие? Ведь это же все очень сложно, как же оно согласуется с вашим принципом упрощения жизни?
- Увы! есть и фабрики, и заводы, но в оправдание наше я могу сказать, что на все человечество их имеется всего только 8 и одна верфь для постройки судов. Надеюсь, в этом вы не усмотрите слишком большого усложнения. Вы видите, как мы живем просто, как мало нам нужно для жизни. Но без некоторых предметов нельзя обойтись: нам нужна материя для палаток и для кое-какой одежды, кисея для защиты от москитов, и это изготовляется на двух фабриках; далее, нам нужны топоры, ножи, заступы - все это изготовляется также на двух фабриках; затем существует еще одна бумажная фабрика, так как нам нужна бумага для записных книжек, в которые мы вносим свои наблюдения над друзьями; существует одна резиновая фабрика для гассеток, один химически завод, изготовляющий краски для окрашивания материй и некоторые, очень немногие, лекарства, главным же образом, драгоценную нирвану и, наконец, один механический завод, приготовляющий и исправляющий машины для всех этих фабрик и отливающий музыкальные таблицы.
Это некоторое усложнение, бесспорно, но очень же небольшое, и зато мы имеем все необходимое; во всяком случае, это неизмеримо проще, чем если бы каждая община стала сама у себя ткать материю, ковать заступы и ножи.
- Кто же работает на этих фабриках?
- Работают специально для этого подготовленные рабы, а руководим мы, покровители, соблюдая очередь. Это, конечно, не так приятно, как жить среди наших друзей, но не забывайте, что при малочисленности фабрик для заведования ими достаточно 25-30 покровителей, а нас всех около 40 000, поэтому до громадного большинства из нас очередь никогда и не доходит, несмотря на то, что срок пребывания на них очень короткий. Это, следовательно, и не обременительная повинность.
Все вырабатываемые на фабриках продукты тотчас же нагружаются на корабли, которые развозят их по всем нашим поселениям, поддерживая этим и сношения между ними. Остальное, как-то: кожа для сандалий и ремней, горшки для варки пищи, циновки, на которых мы спим - все это делается на месте нашими рабами. А больше нам ничего и не нужно.
- А кто же изготовляет такие сложные вещи, как часы, например? неужели тоже полусознательные рабы?
- Часы, - воскликнул Эзрар и залился веселым смехом. - Ах! Вы меня рассмешили. Как будто часы такая уж необходимая вещь для счастья. Ведь и в ваше время говорили: счастливые часов не наблюдают, так на что же они нам!
- Не удивляйтесь, Эзрар, моему вопросу, - смущенно заметил я, - мне все как-то трудно отказаться от своей точки зрения. В наше время жизнь без часов была бы, просто немыслимой.
- Ах, мой друг, при той тихой, уединенной жизни, которую мы ведем в этом мирном уголке, на что нам знать точное течение времени!
- И вы постоянно живете здесь на одном месте?
- О нет! хотя это действительно наш дом, наше родное гнездо, и большую часть жизни мы проводим здесь. Но это не мешает нам много путешествовать и иногда даже далеко. Более взрослые из нашей общины бывали в Австралии, в Новой Гвинее, некоторые даже на Яве.
- Как же вы путешествуете, на чем?
- Ближайшие путешествия или, вернее, прогулки в соседние общины мы совершаем пешком - самым приятным из всех способов путешествий. И надо видеть, как весело совершаются эти прогулки, сколько тут бывает смеха, шуток. Не переставая все время играть, бегать в перегонку, лазать по деревьям, подвигаются наши шаловливые друзья, точно веселая толпа школьников, только что вырвавшихся на волю; но там радовались избавлению от душных классов и стеснений, здесь же радости предаются от мысли о предстоящих новых удовольствиях. По ближайшим островам мы путешествуем на пирогах с балансиром, совершенно подобных тем, которые употреблялись в старину полинезийцами - это оказалось и самым удобным, и самым безопасным способом передвижения по морю. А дальние путешествия мы предпринимаем на парусных судах, которые, как я вам говорил, раза два или три в год объезжают все наши поселения для снабжения нас кое-какими необходимыми предметами. Мы этими случаями иногда и пользуемся.
- Отчего же употребляете вы корабли, а не пароходы? Ведь это же гораздо более скорый и удобный способ передвижения. Неужели вы отказались и от силы пара?
- Чтобы судить о нас, бросьте вашу точку зрения XIX века. Во-первых, паровой силой человек уже давно перестал пользоваться, заменив ее электричеством и утилизируя для этого силу ветра, силу воды, то есть водопадов, течения рек, приливов и отливов. Эти же силы, превращенные в электрическую энергию, двигают и машины на наших фабриках. Что же касается быстроты передвижений, которая вам кажется столь важной, то она была нужна в ваше время, но подумайте, для чего? Для того, чтобы как можно скорее напасть на неприятеля и истребить его, или для того, чтобы как можно скорее привезти свои товары и продать их с барышом, то есть для удовлетворения чувства злобы или алчности. Но у нас нет ни войн, ни торговли, ни злобы, ни алчности. И потому стоит ли говорить о каких-то несчастных пароходах, когда мы отказались от неизмеримо более быстрого и легкого способа сообщения - от полета. Ведь люди с XXII века летали по воздуху так же свободно, как птицы.
- Эзрар, - прервал старика один из молодых людей, подсевших к нам, чтобы послушать наш разговор, - ты нам никогда об этом не рассказывал. Неужели люди летали, как птицы, и отчего же вы не позволяете этого и нам? Как это было бы весело.
- Милый мой друг, я не могу тебе объяснить отчего, ты бы, пожалуй, меня не понял, скажу только, что вы могли бы упасть и расшибиться. А вам, обратился он ко мне, я прибавлю, что такая чрезмерная легкость и быстрота сообщений между людьми для нас крайне нежелательна; это одно из условий, благоприятствующих всякому усложнению и прогрессу. Мы убеждены, что если бы люди опять начали летать так же свободно, как птицы, то, несмотря на все наши усилия, с течением времени от одного этого они пришли бы опять к прежнему состоянию вечной неудовлетворенности самими собою, своим положением, вечного искания лучшего, более совершенного, но и более сложного, трудно достижимого. Только такая тихая и уединенная жизнь, как наша, дает возможность устроить ее просто и счастливо. А главное, это сделало бы надзор наш над человечеством в высшей степени затруднительным, а искусственный подбор, в конце концов, даже невозможным. А вы теперь знаете, что все зиждется на этом подборе. Им мы всего достигли, им же все и поддерживается.
- Знаете, Эзрар, - воскликнул я, - в этой отрезанности вашей от целого мира, в этом тихом уединении, среди которого так мирно и счастливо протекает ваша жизнь, я нахожу какую-то невыразимо поэтическую прелесть. Чувствуешь какое-то отдохновение души при мысли о ней. Наша шумная, суетливая и хлопотливая жизнь, где все от мала до велика надрывались и переутомлялись, толкаясь и давя друг друга, представляется мне теперь чем-то уродливым и безобразным. Впрочем, и у нас лучшие и наименее испорченные и извращенные люди нередко стремились, насколько это им было можно, удаляться от этой толчеи и уединяться среди природы.
- Я рад, что вы так чувствуете, - это залог того, что вам не будет у нас скучно. Действительно, нужно было извратить свою природу, чтобы находить наслаждение в этой толчее, как вы выразились. А между тем она была необходимым условием для прогресса: вне толчеи - нет прогресса, и те человеческие общества, которые жили уединенно, мирно и тихо, никогда не прогрессировали. Конечно, такая жизнь, как наша, не может удовлетворять людей с неукротимой кипучей энергией, с могучей волей, людей, жаждущих сильной деятельности, любящих преодолевать препятствия. Но таких людей у нас теперь нет, и благо нам, ибо подумайте, каким путем вырабатывались такие характеры: многочисленные страдания, лютая борьба за существование - вот что закаляло их из поколения в поколение; при таких суровых жизненных условиях людям только и оставалось - погибать или закаляться и вырабатывать в себе, как броню против зол мира, сильную энергию и жесткость сердца. Но такая энергия есть болезненное явление, она есть продукт мучительной многовековой борьбы и этою борьбою только и поддерживалась, а так как ничего мучительного мы не можем считать желательным, то нежелательна для нас и сама эта энергия. Довольно люди мучились и боролись, и ни к чему это их не привело, как только к напряженности духа, пусть же теперь они мирно отдыхают.
- Но если вы живете так просто и уединенно, то, вероятно, и общественное и государственное устройство у вас также просты. Расскажите, Эзрар, какое у вас правительство, какие власти, как вообще организовано новое человечество?
- Немного придется рассказать вам об этом, и по очень простой причине: у нас нет ни правительства, ни власти, ни законов, никаких вообще ни государственных, ни общественных учреждений, нет даже ни одного города. Все человечество разбито на мелкие ячейки, на такие же совершенно общины, как наша, живущие вполне независимо друг от друга и совершенно подобно тому, как и мы. Единственным связующим элементом являются областные съезды покровителей, повторяющиеся раз в течение нескольких лет. Так, например, в настоящее время съехались представители, всех общин, живущих на островах Таити, и от нашей общины отправился туда мой товарищ с женой - это и есть причина, почему вы их здесь не застали. На этих съездах мы обмениваемся результатами наших опытов и наблюдений над жизнью друзей, сообщаем друг другу сведения о численности населения и удобных местах для поселения новых общин, сговариваемся об экскурсиях, о передвижениях покровителей из одной местности в другую и т. п. Но ничего правильного, а тем более обязательного с этими съездами не связано; они собираются просто ради удобства и для того, чтобы мы, покровители, не теряли связи друг с другом. Мы в некотором роде приезжаем друг к другу в гости и пользуемся этим случаем, чтобы поговорить о своих делах - вот и все. - Существуют, впрочем, еще съезды другого рода, постановления которых носят уже строго обязательный характер - это общие съезды представителей всех общин, но они происходят, как бы вы думали, как часто? - через каждые 200 лет раз! Постановления этих съездов мы считаем священными и обязательными, не только для тех, кто принимает в них участие, но и для всех потомков их вплоть до нового съезда, и в этих мыслях мы, отцы, воспитываем и своих детей, внушаем им уважение к этим постановлениям и берем с них торжественное обещание исполнять все обязательства, принятые нами и нашими предками.
Вас, может быть, удивляет такой большой промежуток между общими съездами, но мы намеренно устраиваем их так редко для того, чтобы менее было побудительных причин к переменам, чтобы, так сказать, не давать пищи к прогрессу, которого мы так страшимся: мы все торжественно обязываемся не предпринимать никаких перемен в организации и образе жизни человечества, как бы они ни казались необходимыми, во все продолжение времени между двумя съездами. И это чрезвычайно важное и глубоко разумное решение!
Через пять лет предстоит первый такой общий съезд в двухсотлетнюю годовщину основания нового человечества. О, это будет высокоторжественный и радостный для нас день, ибо на этом съезде мы будем праздновать нашу удачу, торжество наших идей. И это торжество и эта удача так велики, что теперь после двухсотлетнего опыта, знаете ли какое новое постановление будет принято на этом съезде, обязательное для нас и для наших потомков? на нем будет постановлено: сохранить и на следующее двухсотлетие все в неизменном положении! Впрочем, на нем будут обсуждаться в некоторые второстепенные новые вопросы, как, например, вопрос о целесообразности уменьшения человеческого роста и о женщинах-матках.
Вот и все наше государственное и общественное устройство, как вы выразились. Да, я забыл упомянуть, что у нас есть одна власть, унаследованная от прежних времен, но она совершенно номинальная и ни в чем теперь не проявляется; когда-нибудь я вам об этом расскажу.
-О, как это величественно в своей простоте! -воскликнул я. - Теперь ваша жизнь мне стала вдруг удивительно ясной. Величие в простоте и роскошь в бедности - вот две формулы, которые характеризуют ее всю! Всего у вас мало, и все-таки всего много! И все нужное есть у вас!
- Оттого у нас и есть все нужное, что нет ничего ненужного, - улыбаясь произнес Эзрар.
Глава IV
Последний рассказ Эзрара погрузил меня в задумчивость... Перебирая в своем уме все, что я от него узнал, я, между прочим, вспомнил об одном вопросе, который уже давно меня занимал и который мне хотелось теперь выяснить.
- Дорогой Эзрар, - обратился я к нему, - вы уже несколько раз упоминали о нирване, которую давали мне вчера пить, не объясните ли вы теперь, что это за средство и какое оно имеет для вас значение?
- Друзья! - с живостью проговорил он, обращаясь к небольшой группе их, лежавших и сидевших около нас, внимательно слушая объяснения старика, - пойдите куда-нибудь, мне надо поговорить с нашим гостем наедине.
И когда они, удивленные, встали и ушли, он обратился ко мне со словами:
- Я не мог говорить об этом предмете в их присутствии. Нирвана - мрачное средство, оно связано со смертью, о которой
рузья не должны слышать, и вас я прошу нашего разговора им не передавать.
Ужасное подозрение вдруг промелькнуло в моем уме. Я столько слышал и видел здесь удивительного, что все казалось мне теперь возможным.
- Вы меня пугаете, Эзрар, - сказал я ему, - неужели вы отравляете этим людей!
- Нет, но оно помогает им умирать. И так как вы уж об этом заговорили, то я вам все объясню. Вы видели, как наши друзья живут, узнайте же теперь, как они умирают. Жизнь их, увы! коротка, они не живут более 35, много 40 лет. Мы добились того, что они всегда молоды и юны, мы откинули из их жизни два возраста - зрелость и старость, но это роковым образом повело за собой сокращение жизни. До последних годов своих сохраняют они красоту физическую и детскую веселость духа, но затем сразу, в течение одного года, иногда нескольких месяцев в их организме происходит резкая перемена, они дряхлеют, появляется седина, морщины, они становятся вялыми, перестают принимать участие в играх - это верный признак близкого наступления смерти. Может быть, так оно и лучше, может быть, если бы их жизнь продолжалась значительно дольше, они не смогли бы сохранить всю свою ясность духа, свою жизнерадостность; длинная жизнь, по-видимому, несовместима с постоянною молодостью тела и духа. А стоит ли жить дряхлыми, скучными стариками, во всем разочарованными, и не лучше ли умирать в разгаре юности, среди веселого смеха.
Но смерть для них все-таки страшна! Ведь наши друзья очень чувствительны ко всякому страданию и горю, все тяжелое и мрачное действует на них очень сильно. И это понятно: они почти не знают, что такое горе, и когда что-нибудь случится, вроде сильного ушиба, например, то это ужасно на всех действует. Вам это непонятно, потому что вы и ваши преемники были окружены всякими страданиями и мучениями, вы к ним пригляделись, и они поэтому на вас не могли так болезненно отзываться. Но особенно мучительно и удручающе действовал на наших друзей вид смерти. Жалко бывало смотреть на них, бедных; вся веселость и беззаботность их вдруг исчезали, они ходили точно потерянные, с выражением ужаса и какого-то беспомощного недоумения на лицах, по временам бросаясь на землю, ломая себе руки и испуская дикие, душу раздирающие вопли, и никакие слова наши не могли тогда их успокоить. Ах, как тяжело даже вспоминать об этом времени. Поэтому мы решили употребить всевозможные средства, чтобы избавить их от этой мрачной стороны человеческого существования. И отчасти мы этого достигли. Когда мы замечаем, что кто-нибудь вследствие болезни, которая редко, впрочем, бывает причиной смерти, или просто от старости близок к концу, то мы уводим его в уединенное место и там делаем ему смерть легкой. Для этого и служит нирвана; вы на себе испытали ее действие, но если дать несколько больший прием, то какая бы ни была боль - она исчезает, и человеку делается необыкновенно легко и приятно на душе. По мере того как кризис приближается, мы усиливаем прием, и тогда сознание действительности совершенно покидает умирающего, но при этом он не теряет способности слышать и понимать то, что ему говорят, и все, что он слышит, представляется ему живой реальностью. Таким образом, в последние минуты его существования мы рисуем умирающему радостные и веселые картины, и он отходит в другой мир безболезненно, с улыбкой на устах. Вся тягостная, мучительная сторона смерти благодаря нирване устранена. Жизнь отходит тихо, мирно, а не вырывается грубо, точно клещами, как прежде. Затем мы увозим труп в море и, привязавши к нему камень, бросаем в воду.
Ах, мой друг! Все обязанности наши по отношению к друзьям мы исполняем с радостью и удовольствием, но эта обязанность провожать их всех к смерти -для нас ужасна и мучительна!
В течение нескольких минут он просидел молча, а затем продолжал:
- Когда друзья, заметивши исчезновение кого-нибудь из своих, спрашивают нас, куда деваются их товарищи, то мы стараемся объяснить им, что люди, прожив некоторое время на земле, исчезают затем, как пар, вознесясь на небо, и там, на солнце или на одной из звезд продолжают жить в виде легких воздушных существ так же весело, как и здесь, так же играя и купаясь в солнечных лучах, как здесь они купались в морских волнах. Но это не совсем помогает, они все-таки чуют что-то недоброе, хотя прежнего отчаяния и ужаса, к счастью, уже более нет. Ведь понятие о смерти им все-таки известно потому, что они видят ее у животных, хотя мы и стараемся внушить им мысль, что с человеком бывает иначе; иногда о смерти напомнит им также неосторожное слово, вырвавшееся у кого-нибудь из нас. Все это поддерживает в них какое-то смутное сознание, может быть, отчасти и инстинктивное, чего-то неведомого, страшного и ужасного. Ведь предание о смерти и всех ее ужасах у них еще так свежо! Но со временем это. конечно, все забудется. - В некоторых местностях производятся теперь еще дальнейшие опыты в этом направлении. Друзей стараются убедить, что смерти совсем нет. что она была уделом прежнего человечества, а теперешнее мы настолько усовершенствовали, что она перестала быть для них необходимостью, и что они вечны, а исчезновение их товарищей объясняют переездом на другие острова, в другие страны. И величайшим торжеством нашим будет, когда мы уничтожим в людях не только ужас смерти, но даже самое понятие, самое воспоминание о ней. Если они не будут бессмертны на самом деле, то, по крайней мере, они будут воображать себя таковыми, а ведь для них это будет одно и то же. И я убежден, что так или иначе мы этого достигнем.
- Эзрар! - воскликнул я, - из всего, что я у вас узнал, - это самое замечательное! Вы сделали людей вечно юными, дали им безоблачное прочное счастье, вы сделали труд ненужным, и теперь в заключение всего этого вы еще избавили их от ужаса смерти. Поистине, вы сделали для людей больше, чем само Божество! О, я не знаю, что мне обо всем этом и думать! Все готов я допустить, но чтобы люди когда-нибудь могли бы считать себя бессмертными, разве это мыслимо!? А между тем, теперь я готов допустить возможность и этого! Вы смешали все мои понятия, и если бы я не слышал все, что вы мне сейчас рассказали, от вас самих, то счел бы это бредом безумия. И после этого вы еще станете уверять меня, что вы не боги!
Эзрар с улыбкой глядел на меня, слушая мои несколько бессвязные восклицания.
- Но если вы сами не боги, продолжал я после некоторого молчания, то скажите пожалуйста, что сталось с ними, есть ли у вас религия, во что верует новое человечество?
- Наши друзья, как я вам сейчас говорил, верят в будущую жизнь. Они верят также в существование верховных существ, которые им представляются такими же покровителями духовных существ, какими мы являемся здесь для земных существ. Мы стараемся объяснить им кратко, элементарно, но ясно и точно все, что наука может объяснить; но чуть является неразрешимое - мы относим это к воле верховных существ, и, таким образом, истина получается для них как бы полная, и это более удовлетворяет их умы. Более же всего друзья почитают солнце и поклоняются ему, как ближайшему божеству, создавшему весь видимый мир и поддерживающему жизнь. И вы знаете, что это истина, что солнце действительно есть первоисточник всего, что мы видим вокруг себя; оно греет нас, оно дает нам пишу, оно есть источник всякой энергии на земле, источник самой нашей жизни, наших мыслей. Вот почему каждый день утром, просыпаясь, воссылаем мы хвалебный гимн солнцу. Впрочем, друзья наши довольно индифферентны к религиозным вопросам, и по понятной причине: к религии люди всегда прибегали как к убежищу от житейских разочарований и невзгод; горе - вот что гнало их к богам, в счастье они всегда их забывали. А у нас горя нет.
- А вы сами, - спросил я.
- Что касается нас, то мы - скептики. Ничего не отрицать и ничего не признавать - вот символ нашей веры. Как скептики, мы готовы допустить все, но ни в чем не уверены, не находя достаточно доказательств ни чтобы принять, ни чтобы отбросить какие бы то ни было метафизические взгляды. Мы даже убеждены, что здесь, на земле, при ограниченности ума и средств познавания, нет и возможности в чем-нибудь убедиться. Ваши философы уверяли, что есть что-то абсолютное, но так как и чувствовать, и мыслить, и даже мечтать мы можем только относительно, то как же возможно для нас людей хоть сколько-нибудь познать или хотя бы только почувствовать это абсолютное. Поэтому мы считаем, что пока живем здесь на земле, совершенно бесцельно об этом и думать, и говорить. Может быть, убедимся мы в чем-нибудь в иной жизни, хотя и в этом мы не вполне уверены, ибо если и будет иная жизнь, то ничто не ручается за то, что и там наша познавательная способность не будет чем-нибудь ограничена, возможно, что и там мы будем жить окруженные неразрешимыми загадками. И потом, если и есть что-то абсолютное, то есть совершенно непонятное, то нам кажется, что это непонятное так чуждо нам, так мало нами интересуется, что мы не видим надобности и нам самим особенно им интересоваться.
- Ах, Эзрар, зачем вы так говорите! Поверьте, есть и абсолютное, есть и духи, и они гораздо более заботятся о людях, чем вы думаете. Я даже убежден, что все то счастье, которое я у вас нашел, есть не что иное, как дело их рук.
- Возможно, мой друг, возможно, ведь мы не отрицаем возможности существования другого мира, кроме видимого, мы только не можем чувствовать уверенности в этом. И мы почти не сомневаемся, что есть абсолютное, хотя под этим словом мы понимаем не какое-нибудь особое существо, одаренное разумом, а просто мир, каков он есть в действительности, а не как он представляется нашему разуму, то есть без отношения к нам, и потому реальный, абсолютный, а не относительный мир. Что же касается последнего вашего предположения об источнике нашего счастья, будто бы дарованного нам духами, то оно уже совсем невероятно. О нет! счастье это есть всецело дело собственных наших рук! Припомните немножко историю человечества, припомните, как 27 веков тому назад, на рубеже старого и нового мира появился великий человек, воплощенный дух, по вашим верованиям, и в таком случае величайший из духов, когда-либо появлявшихся на земле, и вспомните, что же сделал он для счастья человеческого? Чему он учил людей и чему их научил? - терпеть зло на земле и прощать обиды в ожидании счастья на небе. Но и этому многих ли он научил? На земле же и он бессилен был сделать что-либо для людей, и он это знал и потому-то царство свое объявил не от мира сего. Но во все века людям было мало одной надежды на счастье небесное, и в ожидании вечного рая, в который они всегда так мало верили, им еще нужно было счастье на земле. Да и для небесного счастья нужно это счастье земное, ибо, живя на земле, как в аду, не попадешь в рай. И в этом пренебрежении к материальному, земному счастью, к счастью мира сего и была роковая ошибка его учения и причина неудачи, его постигшей.
И вот теперь подумайте: то, что не мог осуществить на земле самый могущественный из духов, за что он даже не пытался браться, можно ли было ожидать, что оно осуществится менее могущественными духами, и не оставалось ли, следовательно, людям в устройстве своих земных дел положиться только на свои собственный силы? Мы не верили, чтобы какие-нибудь боги или духи, если они есть, когда-нибудь смогут или захотят осуществить счастье на земле, и имели глубокое основание в этом сомневаться: ибо, если бы они этого хотели, то не стали бы откладывать своего намерения на целую сотню тысяч лет, в течение которых человечество не переставало корчиться в муках, а осуществили бы это уже давно. И вот мы, простые смертные, взяли эту задачу на себя и, как видите, задача нами исполнена, насколько это позволили слабые наши силы. Остальное, добавил он, мы предоставляем доделать всемогущим духам ... и по лицу его скользнула при этом недобрая, насмешливая улыбка.
- Но, - возразил я, - зачем обвиняете вы в бессилии или безучастии богов и духов, не правильнее ли обвинить самих людей; не их ли злая воля, не их ли собственное нежелание подчиниться заветам Великого Учителя было всегда причиной невозможности устроить счастье на земле Ведь если бы высшие силы устроили счастье наперекор этому нежеланию, то это было бы возможно только путем насилия над злой волей, а это равносильно уничтожение воли вообще. И что же осталось бы от человека без его свободно собой располагающей воли? это был бы не человек, а машина, автомат или животное.
- В таком случае не следовало создавать людей вовсе. Если высшие существа не могли создать их счастливыми иначе, как превращая их в автоматы, то какою же непростительною жестокостью было создавать их, зная, что они будут несчастными. Я, впрочем, не понимаю, как вы можете делать подобное возражение, на вас как будто нашло минутное затмение ума, вы, очевидно, забыли все, что за эти два дня видели и слышали у нас. Скажите, счастливы ли люди, которых вы здесь нашли?
- Да, я этого отрицать не могу.
- А между тем это прямые потомки прежних людей, как и они, следовательно, одаренные, согласно вашему взгляду, все тою же злою волей, все так же упорно не желающие устроить свое счастье на земле. И, несмотря на это, мы все-таки сделали их счастливыми. А совершили ли мы при этом насилие над их вОлей, хотя бы даже только над их злой волей? Не вы ли сами восхищались тем, как мы без всякой борьбы, без всякого насилия, путем искусственного подбора достигаем великих результатов в области нравственного усовершенствования, не вам ли я говорил, что непротивление злу составляете один из основных принципов нашей жизни. Видели ли вы за эти два дня, чтобы я кого-нибудь из друзей заставлял что-нибудь делать или насильственно удерживал от какого-нибудь поступка? Да, создавая новое человечество, мы руководили людьми, мы руководим ими еще и теперь, своим нравственным и умственным авторитетом мы, без сомнения, влияем на них, но не поступают ли так и воспитатели и родители по отношению к своим детям, не поступают ли так и пастыри и учителя церкви - от которых вы, очевидно, заимствовали свое возражение - по отношение к своим духовным детям, не поступал ли так и сам верховный ваш учитель, давая людям свои заповеди и влияя на них примером своей жизни? Что же, разве и они все совершали насилие над волей и уничтожали свободу ее?
И я вас спрашиваю: если мы, простые смертные, сумел", не уничтожая воли, не превращая людей в автоматы, привести их в тихую, мирную гавань счастья, то почему не сделали этого высшие силы, предположив, что они есть? Скажите, потому ли, что они не хотели, или потому, что не могли этого сделать?
Но я молчал, ибо не находил, что ответить.
Молчал и Эзрар, и оба мы просидели так некоторое время, погруженные каждый в свои глубокие думы. Но Эзрар снова заговорил:
- А привести человечество в эту мирную гавань давно уже было пора, ибо зло в мире стато непомерно велико. Возьмите, например, мучительную смерть с ее корчами, с ее ужасной агонией, на что эта мучительность ее?! какая ненужная жестокость! А соедините мысленно воедино предсмертные стоны всех умерших людей - их же миллиарды миллиардов - и подумайте, какой из этого одного должен получиться душу раздирающий вопль. Но что значат мучения предсмертной агонии в сравнении с теми мучениями, которые большинство людей испытывает в течение всей своей жизни; подумайте, сколько самоубийц сами добровольно шли навстречу первым, чтобы только уйти от вторых. Соедините же в своем воображении физические и нравственные мучения всех когда-либо существовавших людей воедино, все стоны больных и раненных, все слезы детей, женщин, слабых и обиженных, всю горечь предательства, все унижения, смертельные горести разлуки с умершими, слейте все воедино и прислушайтесь: какой от этого поднимется безмерно ужасный вопль! И я вас спрашиваю: как этот вопль, который должен был бы потрясти мир в своих основах, не донесся до неба, а если донесся, то как он не смутил верховное существо, не смягчил его сердце и не заставил его, наконец, сжалиться над бедными людьми? Подумайте, так ли поступили бы вы, или я, или всякий другой смертный, имеющий жалость в своей груди, если бы, будучи владыкой мира, он услышал этот вопль? Не простили ли бы мы сто раз всякие грехи человеческие, как бы велики они ни были, чтобы только увидеть радость и счастье воцарившимися в мире. Вы скажете, что, быть может, сама природа вещей препятствует воцарению счастья там, где господствует грех, что сама природа вещей требует возмездия. О, если бы я был всемогущим божеством, каким всесокрушающим вихрем налетел бы я на эту природу вещей, смял и уничтожил бы ее, дабы она не препятствовала мне подойти к людям близко, совсем близко, простить им все и, осушив их слезы, прижать их, бедных, измученных, к своей груди: и да будут они затем навеки счастливы!
Ах, мой друг, я скептик, я не верую так безусловно, как вы, и все-таки я глубоко возмущен при мысли, что божество, если оно есть, преследуя какие-то неведомые нам цели, может быть и очень возвышенные, прибегает для достижения их к таким мрачным средствам, к таким невыразимым страданиям, которыми человечество терзалось в течение стольких тысячелетий. Ведь слезы от этих страданий пропитали землю от поверхности до самого ядра ее, и никогда ничем эти слезы не смогут быть оправданы; никогда не окупятся они! Но это еще благо, что я скептик, ибо будь я глубоко верующим, как вы, то предела не было бы моему возмущенному чувству, с безграничным ужасом, с непримиримым негодованием отвернулся бы я от такого жестокосердного божества. О, легче знать, что мир есть не что иное, как слепая, случайная комбинация сил без цели и мысли, легче тогда выносить мысль о страданиях мира, ибо нет тогда виновника им; все эти стоны и слезы, вся эта горечь жизни, все эти корчи смерти внушали бы тогда один только беспомощный ужас. Но если есть творец всего этого - о, тогда к ужасу присоединяется еще безграничное негодование!
Говоря так, Эзрар пришел в сильное волнение и я, желая как- нибудь его успокоить, вздумал привести одно соображение, казавшееся мне совершенно логичным и способным несколько умиротворить его взволнованную душу. Результат, увы! получился однако совершенно противоположный.
- Я понимаю, - сказал я, - что вы, отвыкшие видеть зло и страдание, так возмущаетесь при мысли о нем, я и сам, признаюсь, не совсем это понимаю, но, дорогой Эзрар, вы не подумали об одном: ведь страдание очищает, возвышает дух, и в этом, может быть, его оправдание.
Но Эзрар вскочил как ужаленный при этих словах и, весь дрожа, с бледным, искаженным лицом закричал:
- Молчите! Не смейте так говорить! Я не в состоянии перенести такого возмутительного рассуждения, все нутро мое переворачивается, слыша его. И понимаете ли вы, что вы говорите, как возмутительно жестоки слова ваши? Что бы вы сказали про человека, про отца, который старался бы превратить жизнь своего сына в беспрерывный ряд горестей и печалей, который всю жизнь терзал бы его телесно и душевно, довел бы его до самоубийства - и все под тем предлогом, что это совершенствует его дух? Вы не нашли бы достаточно сильных слов, чтобы заклеймить такого отца: злодей, негодяй, нравственный урод - вот названия, которые еще слишком слабы для такого действительно урода и изувера, для такого нравственно помешанного человека. С чувством непримиримого негодования, с чувством глубочайшего отвращения отвернулись бы вы от такого отца. И вы хотите оправдать страдания, причиняемые отцом небесным своим несчастным беспомощным детям на земле таким рассуждением! Не оправдание его, а страшное обвинение слышится в вашем рассуждении, обвинение в неслыханной жестокости, на какую мы, простые люди, считаем себя неспособными! Одною только любовью, одною ласкою и нежностью, одними только мягкими средствами, исключающими всякое страдание, всякое насилие, считаем мы себя вправе совершенствовать людей, и то, что мы считаем непростительным для себя, мы не можем считать простительным для божества или оправдывающим его. Нет! ему нет оправдания, как не может быть оправдания зла в мире. Цель не оправдывает дурные, жестокие средства. И если ваш отец небесный действительно такое бесчеловечное, жестокое существо, то мы отворачиваемся от него, мы не хотим его и знать, мы отрицаем его! Прочь! Прочь от нас!!
И он опустился в изнеможении, закрыв себе лицо руками, и долго просидел в этой позе.
- К счастью, - прибавил он, - такого жестокого чудовища по-видимому и нет. Было бы слишком ужасно, если бы оно существовало.
Затем он встал и произнес:
- Перестанем говорить об этом - это слишком мучительно для нас обоих, да и бесцельно, ибо, в конце концов, мы ничего обо всем этом не знаем и не можем шать. Мы можем только чувствовать, но чувства эти так преисполнены горечью, что не следует предаваться им бесцельно. Пойдемте лучше ужинать, уже пора.
И мы пошли, печально опустив головы, с тревогой в сердце, и я с грустью подумал: вот, не успел я, человек XIX века, прожить и двух дней в этой новой среде, такой тихой и мирной, как уже дважды возмутил царствующую здесь ясность духа, внеся сюда разлад и треволнение.
Ужин прошел как-то уныло и вяло, точно какая-то тень пробежала над всеми, ибо друзья заметили нашу сосредоточенность и молчаливость; они с удивлением посматривали на нас обоих и сами точно съежились, не проявляя своей обычной веселости и оживления. Все предложения устроить после ужина танцы или прогулку по морю были Эзраром немедленно отвергнуты под предлогом необходимости для меня покоя, и тотчас же по окончании он предложил мне пойти с ним в его палатку.
Здесь он достал с небольшой полки одну из стоявших на ней книг и, подавая ее мне, сказал:
- Вот книга, в которой вы найдете историю человечества за последние восемь веков, она объяснит вам, каким путем мы дошли до теперешнего нашего состояния.
Я с жадностью выхватил у него из рук книгу и заявил, что всю ночь напролет буду читать ее.
- Мой друг - это неисполнимо, - улыбаясь заметил он мне на это. - Вы забыли, что у нас нет ни ламп, ни свечей; вам поневоле придется отложить чтение до завтра.
И при виде моего отчаяния он прибавил:
- Если ваше нетерпение так велико, что, впрочем, вполне и понятно, то я могу предложить вам только одно средство, чтобы вас успокоить и удовлетворить вашему законному любопытству: я могу в кратких чертах рассказать главнейшие события за протекшие восемь веков. И так как уже темнеет, то подождите, я сейчас распоряжусь, чтобы зажгли костер перед моей палаткой.
Когда костер был зажжен, мы с Эзраром уселись около него, и он так начал свой рассказ:
Глава V
- Ваш век носил печать неопределенности, это была какая- то странная смесь науки и слепой веры, промышленных изобретений и милитаризма, капитализма и социализма, подъема национального духа и развития космополитизма, в нравственном же смысле это был более всего век искания истины. Но в самом конце его уже начала обрисовываться одна черта, наложившая свою особую окраску на весь следующий XX век, - это стремление к уравнению образования. Какая-то неудержимая сила толкала лучших людей разносить свет знания в темные классы. Люди шли в народ, учили их, разносили книги, всюду открывались народные школы, даже целые народные университеты, учреждались библиотеки; самые грубые, эгоистичные люди жертвовали на это дело огромные средства на явную пагубу себе и своему привилегированному положению. Началось движение людьми, сознательно поднявшими это знамя, и они своим примером заставили подчиниться этому и других, действовавпшх уже бессознательно, как бы под влиянием внушения и даже явно против своих собственных интересов. В середине XX столетия среднее образование во многих странах стало обязательным для всех граждан, и простые рабочие, извозчики, землекопы были нередко докторами философии или права. Теперь рабочие массы имели гораздо больше знаний, чем хлеба. И это не замедлило привести к естественным последствиям. Массы эти со всей ясностью поняли незавидное свое положение и не могли уже более им довольствоваться. После равенства образования им, естественно, захотелось и равенства в пользовании земными благами, и как результат - социалистическое учение, сделавшее такие успехи еще в конце XIX века, в XX стало общегосподствующим среди низших и средних классов: немного нужно было, чтобы оно перешло и в практику. Некоторые страны, как Франция, незаметно перешли к чисто социалистическому устройству, но в других, где богатые люди, как в Англии и Америке, или власть имущие, как в Германии, захотели положить предел этим "мечтаниям", не обошлось без кровопролития. Особенно свирепой и жестокой была борьба в Америке, обе стороны дрались здесь, как дикари, жгли друг друга, скальпировали, сдирали кожу с живых. Но мирно ли, силой ли, а в конце концов всюду водворился социалистический строй и четвертое сословие стало, наконец, господствующим.
Сначала все шло как будто хорошо. Единодушие и согласие, выработанные в предшествовавший период борьбы, продолжали по инерции еще царить в течение некоторого времени. Кроме того, прежнее общество оставило новому богатое наследие в виде зданий, машин, обширного инвентаря, всякого рода богатств, накопленных веками, которыми новое общество воспользовалось для улучшения своего благосостояния, и потому людям сначала стало жить легко и привольно. Но когда борьба с внешним врагом прекратилась и установился мир, то, как всегда бывает, согласие уступило место внутренним раздорам и несогласиям. И как всегда тоже бывает, почвой, на которой развились эти несогласия, послужили экономические затруднения и, главным образом, вопрос о распределении труда - этой вечной помехи в установлении мира между людьми. Причин же к появлению экономических затруднений было немало. Общество очутилось вскоре в положении богатого наследника, прожившего свое наследие и отныне принужденного зарабатывать свое пропитание исключительно своим трудом. Самый труд, не подгоняемый более бичом личной нужды или надеждой обогащения, стал менее интенсивен, менее производителен, чем при прежних порядках. Обнаружилось и еще одно неожиданное обстоятельство: прежнее богатство цивилизованного мира получалось в значительной мере путем экономической эксплуатации всего нецивилизованного или полуцивилизованного мира; из этих экономических вассалов высасывались те несметные богатства, которые со всех сторон стекались в Европу и Америку. При новом строе, основанном на идее справедливости, этот грязный, но неисчерпаемый источник обогащения должен был иссякнуть, как основанный на высшей неправде и несправедливости. Впрочем, он стал иссякать и помимо этого сентиментального соображения, ибо вместе с распространением цивилизации в странах, где прежде ее не было, сами вассалы стали все более и более освобождаться от своей экономической зависимости.
Все это мало-помалу привело к состоянию если не бедности, то стеснения, почти нужды. Равенство экономическое все еще было, но к великому разочарованию, это было, скорее, равенство бедности, чем роскоши. Мечты о всеобщем богатстве при двух-трех часовой работе оказались действительно мечтами. Блага мира, поровну распределенные между всеми, оказались весьма незначительными, а запросы на эти блага, которых люди за истекшие десятилетия научились уже вкушать, были велики, и чтобы удовлетворить им, пришлось много трудиться, столько же, сколько и прежде, даже больше. Человек все-таки не был свободен, он стал теперь рабом не людей, а машин, рабом строя, рабом своих высоко развитых потребностей, он все-таки не жил, а, как и прежде, только работал, чтобы жить, и жил - чтобы работать. А пожить свободно ему хотелось, да и какой смысл иначе имела бы вся предыдущая борьба, какую цену - достигнутая победа! В глубине человеческой природы все-таки таилась прирожденная ему потребность, унаследованная еще от вольного дикаря, - жить вольной птицей, вне стесняющих условий цивилизации, дышать свежим воздухом, шататься без цели, любуясь солнцем и зеленью, петь и веселиться, а главное - чувствовать себя свободным от какого бы то ни было ига, от ига труда, прежде всего. Труд всегда был для человека ярмом, и всегда он готов был, как только представлялась к тому возможность, сбросить его с себя и надеть на более слабых, на женщин, как это было у дикарей, на рабов в древности, на рабочих в ваше время. Теперь, при новом строе, надеть это постылое ярмо было не на кого, оставалось только сделать его по возможности легким. И вот появилось новое стремление - стремление к упрощению жизни, к понижению уровня цивилизации, столь тяжелой и дорогостоящей, готовность отказаться от многих фиктивных благ, от большинства потребностей, лишь бы получить больше действительных благ: права располагать собой, своей личностью, своим временем, чтобы жить вольно, не по расписанию, не по звонку или свистку, чтобы чувствовать себя свободным человеком, а не колесом какой-то гигантской машины. В человеке проснулось дитя природы, а это дитя - враг машины. И, как результат этих стремлений, появилось движение с целью добиться освобождения от обязательного для всех одинакового труда, и цель эта. наконец, была достигнута. Было установлено право для каждого гражданина получать минимум содержания, обеспечивающий ему кусок насущного хлеба при условии минимума работы в два часа. Не нужно было более ежедневно проводить день за днем над мучительно-однообразной, отупляющей в своей специализации работой на фабриках и заводах, так опротивевших, наконец, человечеству, достаточно было проработать полтора дня по восемь часов, чтобы получить полную свободу на всю остальную неделю, или усиленно проработать неделю, чтобы быть свободным на целый месяц. И многие с восторгом воспользовались этой свободой; они предпочитали ходить в лохмотьях, плохо питаясь, довольствуясь самым дурным помещением, но зато иметь возможность дышать свободно, жить вольною цыганскою жизнью. И такая жизнь стала привлекать все большее и большее число людей. Таким образом, незаметно образовался новый класс людей, новое сословие - сословие богемы или трампов, как их называли, и оно за менило собой прежнее четвертое сословие - пролетариев, как это последнее некогда заняло место третьего сословия - tiers etat. Между тем, это сословие богемы, к которому примкнули и простые лентяи, пользовалось, наравне с прочими, более трудолюбивыми классами всеми даровыми удобствами цивилизации, даровым проездом, даровыми школами, медициной, освещением, садами, даровыми театрами, музыкой, всеми общественными удовольствиями, одним словом, оно потребляло вчетверо, впятеро больше, чем само производило. Понятно, что при таких условиях интенсивная и дорогостоящая цивилизация не могла существовать долго, ей грозило неминуемое банкротство. Этим же совершенно разрушался и принцип экономического равенства: трудящийся класс, зарабатывая много и в силу этого становясь и преобладающим классом, забирал лучшие места в жизни для себя и для своих, что было и справедливо, и постепенно, незаметно развилось неравенство в общественном положении, неравенство в наслаждении благами природы, подобные прежним. Но новый преобладающий класс, на плечи которого была взвалена вся тягость поддержания не только своей личной, но и общественной роскоши, не желая отказаться от этой роскоши и понизить уровень потребностей, увидел себя принужденным изменить такое положение дел, к тому же грозившее разрушить весь социалистический строй.
И вот был отменен минимальный заработок и установлена обязательная для всех шестичасовая, а затем и восьмичасовая работа. Но этого пятое сословие, деморализованное бездельем, привыкшее лениться, не захотело вытерпеть, оно стало сопротивляться, устраивать возмущения, заговоры с целью разрушить власть, опять наложившую на них прежнее тяжелое ярмо. Долой тиранов! Да здравствует свобода! стали опять криками бушевавшей толпы. Свобода быть бедным стала новым идеалом, к которому люди стали стремиться с такою же страстностью, с какою некогда стремились к свободе религиозной, политической и экономической. Возмущения и заговоры все более и более учащались. Появилась опять теория анархизма, и обществу грозила и практика его. При таком положении дел трудящимся и правящим ничего более не оставалось, как вновь организовать военную силу для обуздания безумной черни, открыто подстрекаемой теперь всеми элементами, недовольными социалистическим порядком.
К вышеуказанному источнику недовольства тогдашним устройством человечества присоединились еще и другие.
Там, где почва была плохая, мало плодородная и климат суровый, людям приходилось работать вдвое-втрое больше, чем в южных странах с плодородной почвой, или же - довольствоваться бедной жизнью, протекавшей среди нужды и лишений. Это возбуждало зависть в более обделенных природой, они требовали, чтобы жители богатых стран отдавали им часть своего заработка. Но так как социалистический строй основался и держался не столько побуждениями идеальной нравственности, не чувствами гуманности и любви, сколько материальным расчетом, соображениями о выгоде, то, конечно, людям, поставленным в более благоприятные природные условия, не было никакого расчета работать на других, и они не соглашались на эти требования, желая сохранить все выгоды своего привилегированного положения исключительно для самих себя. Тогда жители более бедных стран стали эмигрировать в богатые страны, отчего в бедных странах стало еще беднее, а это, в свою очередь, усилило эмиграцию в богатые страны, пока, наконец, в последних стало так тесно жить, появился такой избыток рабочих, что эмигрантов стали вытеснять, дальнейший доступ их был стеснен, местами и совсем запрещен. Но это только усилило озлобление одних против других; появились насилия, стычки, целые маленькие сражения.
Конечно, будь люди лучше, мягче, добрее, такие вопросы могли бы разрешаться мирно и не давать повода к взаимному озлоблению. Но люди не годились для того строя, который они организовали, мирному житию их, мирному разрешению как этого, так и многих других экономических вопросов, препятствовал их характер, унаследованный от прежних веков. Предшествовавшие века с их крайне развитым индивидуализмом, с ожесточенной, лютой борьбой за существование, в которой все слабое, кроткое, мирное было обречено на безжалостную гибель, выработали и наследственно укрепили характеры, отличавшиеся необычайной энергией, беспокойным, неукротимым, предприимчивым духом, бессердечием и крайним эгоизмом. И эта энергия и эгоизм были необходимы в те века, как броня защищали они тогдашних людей от ударов судьбы и позволяли им держаться, не падать от суровой житейской действительности: борьба была так интенсивна, что стоило только дрогнуть кому-нибудь из тогдашних людей, как тотчас же он падал и погибал, затоптанный своими соседями без сожаления, как без сожаления готов был затоптать и он сам своего более слабого ближнего. С особенной силой развит был такой дух индивидуализма, энергии и бессердечия в англосаксонской расе, издревле отличавшейся отсутствием мягкости в характере. К сожалению, эта раса, благодаря именно таким особенностям характера, распространила в XX веке свое господство почти по всему земному шару, частью вытеснив, частью поглотив все другие расы, и стала, наюнец, господствующей. Когда воцарился социализм, то эта раса оказалась, таким образом, во главе движения, она явилась главным носителем этого нового знамени. Но при новом устройстве человеческого общества такие характеры, такая интенсивность энергии, такая стремительность и беспокойность духа стали качествами ненужными, более того, они оказались крайне вредными, ибо, не находя при изменившихся условиях естественного применения в личной, индивидуальной борьбе, они стали сказываться в стремлении рас и экономических групп к господству, к главенству, в стремлении захватить себе лучшие отрасли труда, лучшие уголки земного шара, поставленные природой в лучшие условия, и в безжалостном оттеснении из них остальных людей. Они стали сказываться во всех случаях жизни; всякий повод к раздорам и недоразумениям, который при более мягком, уступчивом и отзывчивом характере мог бы быть устранен, подхватывался такими неукротимыми характерами и раздувался в крупное событие, превращался в целую драму. Прежняя борьба человека с человеком, каждого против всех и всех против каждого не прекратилась, она только переменила свою форму и из борьбы единиц с единицами превратилась в борьбу человеческих групп, каждая со своими непримиримыми интересами, в борьбу экономических единиц друг против друга, одних отраслей промышленности с другими, стран более богатых со странами менее богатыми, стран, производивших более ценные продукты, со странами, не имевшими возможности их производить, и в эту борьбу вкладывалась вся та беспощадность, вся страстность и энергия, которые выработаны были в прежние века индивидуализма.
Итак, с одной стороны, нежелание пятого сословия подчиниться обязательному труду, заговоры и восстания, которые оно устраивало, а с другой стороны - желание англосаксонской расы сохранить свое привилегированное и господствующее положение на земном шаре и желание людей, поставленных в благоприятные природные условия, сохранить все выгоды этого положения за собой - все это вместе привело к тому, что масса недовольных, масса враждующих и все более и более ожесточающихся друг против друга людей стала возрастать, и это грозило привести человечество в состояние анархии. При таких условиях правящие, как я сказал, принуждены были прибегнуть к учреждению сильной власти и к организации военной силы. Это только еще более озлобило недовольных, что, в свою очередь, повело к еще большему усилению власти господствующих классов, и вскоре власть эта стала неограниченной.
Но, получив таким образом неограниченную власть и, следовательно, возможность злоупотреблять ею, люди, принадлежавшие
к руководящим сферам, сами не выдержали и поддались развращающему влиянию этой безграничной свободы. И вот, не прошло и двух-трех поколений, как они превратились в тех же самых капиталистов и эксплуататоров низших классов, от которых их предкам с таким трудом удалось избавиться. Выползли тогда, как клопы из своих щелей, прежние ростовщики и развратители рода человеческого - жиды, и, к всеобщему удивлению, нагруженные мешками золота, которое они на всякий случай своевременно припрятали, если не для себя, то для своих потомков. Вскоре не осталось и камня на камне от социалистического устройства, и общество конца XXII и начала XXIII веков в остальной организации своей до поразительности напоминало общество конца XIX века. Те же банки, акции, крахи и банкротства, та же роскошь, беззаветный эгоизм и плутовство в высших сферах, та же грубость, пьянство и озлобление в низших классах. Труды и усилия трех столетий пропали бесследно, если не считать завоеваний в сферах науки и техники. Положение дел даже ухудшилось, ибо высшие классы и интеллигенция уже не видели больше, как это было прежде, возможности осуществить справедливость в человеческих отношениях, они потеряли всякий идеал, сдерживавший прежде дурные инстинкты, и потому стали действовать по отношение к меньшой братии, ничем не стесняясь, без лицемерия, в открытую. Даже лучшие люди тогдашнего времени со спокойною совестью проповедовали, что если нельзя пользоваться благами мира всем, то пусть пользуются ими всецело хоть немногие. Низшие же классы за два века успели окончательно отучиться от своей традиционной скромности, нетребовательности и потерять веками выработанную выносливость и трудолюбие. И они, видя ужасную неудачу, их постигшую, отчаялись когда-либо устроиться лучше; они окончательно пали духом, и если и проявляли протесты, порой грозные, то эти последние появлялись уже не во имя идеи, не ради надежды на достижение лучшего, а как вспышки безнадежной злобы. И подавлялись эти грубые, отчаянные возмущения, не щадившие ни возраста, ни пола, также грубо и тоже не во имя идеи порядка и благоустройства, а из одних корыстных мотивов, по одному праву сильного. И это право сильного мало-помалу так понравилось сильным, что они, не сдерживаемые теперь никакими кумирами, разбитыми и поверженными в прах, стали забывать все законы не только божеские, давно уже забытые, но и человеческие. Все считалось дозволенным для сильных, над бедным и слабым тешились самым беззастенчивым образом, закрепощали рабочих к своим заводам, фабрикам и землям, отсылали целыми партиями в колонии, без стеснения брали себе при помощи вооруженной силы нравившихся им дочерей, сестер и жен. насиловали их. Наступила опять эпоха кулачного права, крепостного феодализма, рабства; с XIX века человечество пало еще на несколько веков ниже. Казалось, что его удел - правильно спускаться по той же самой лестнице, по которой оно с таким трудом, ценой таких ужасных жертв когда-то взбиралось вверх. Но на этом падение не могло остановиться: когда вошло в нравы, что сильные безнаказанно могли злоупотреблять своей силой по отношению к слабым, беззащитным, то, естественно, это пошло и дальше: насилию стали подвергаться и сильные со стороны еще более сильных, а затем дошло до междоусобий между самыми сильными. И это, наконец, заставило опомниться господствующее сословие. Такая система полной распущенности и беззакония оказалась неудобной для всех, и вновь установился некоторый порядок и законность, охранявшая интересы всего сословия сильных. О слабых никто уже более и не думал; впрочем законность коснулась и их: их бесправие и униженность были узаконены.
Никогда еще нравственное начало не падало так низко, как в это время. Ангел добра стоял в стороне от человечества с опущенными крыльями, закрывши лицо, и плакал. И горючие слезы его, падая на очерствелые сердца людей, наконец, размягчили их, совесть, дремавшая в лучших людях, проснулась вновь и тем ярче засветилась, чем тяжелее был ее сон. Но горько было это пробуждение! На призыв их опомниться, восстановить правду, им отвечали историческим опытом, доказавшим несбыточность подобной мечты. Но благородные элементы не могли с этим примириться, им нужен был какой-нибудь исход, и они стали искать его; и как реакция господствовавшей силе, эгоизму, бессердечию широкой волной разлилось мистически- нравственное движение на спиритической подкладке. Если нельзя быть всем счастливым - то будем лучше все несчастливы, восклицали они, и толпами стали удаляться в монастыри, всюду появлявшиеся, как в средние века; они стали уединяться от порочного общества, посвящая себя нравственному усовершенствованию, науке, и подвергаясь всем тягостям добровольно на себя наложенной бедности. Но это движение не долго продолжалось. Основой ему служила спиритическая доктрина, которая опиралась на факты и явления, казавшиеся неопровержимыми и свидетельствовавшие о существовании духовного мира с его интересами, гораздо высшими интересов земных. И явления эти были действительно поразительны: люди жили, окруженные какими-то таинственными существами, то телесными, как и они, то полудуховными, эфирными, эти существа появлялись неизвестно откуда, исчезали, как пар, неизвестно куда, они ходили, говорили, жили с людьми; люди стали сообщаться мыслями, не стесняясь расстояниями, читать в прошлом, угадывать будущее... Но наука, строгая, точная, вооруженная весами и математическим анализом, не дремала. Она разбила и этот кумир, она доказала, что все эти явления не что иное, как результат болезненного настроения. Она открыла психическую силу, совершенно аналогичную всем прочим силам природы, способную действовать на расстоянии, переходить в теплоту, в свет, в электричество, во все другие виды энергии, которые в человеческом организме, в свою очередь, могли превращаться в психическую силу. Эту силу удалось собирать в фокусе стекла, подобно свету, разлагать ее через особые призмы, удалось даже вычислить число колебаний и длину волн и получить их интерференцию. При помощи особого прибора психическая сила каждого человека, концентрируясь, могла материализоваться, его мысли, его представления могли по желанию проявляться в виде соответственных предметов, в виде полуматериальных существ, подобных людям; без прибора - это достигалось только болезненно настроенными людьми. Таким образом, оказалось, что все духи во плоти, все их речи - все это было болезненным продуктом самого человека, это были его же собственные мысли, его чувства, перенесенные вне его и превращенные психической силой в нечто объективное и реальное, это были материализованные фантомы его воображения. Оказалось, что основа всей мистики, всего спиритизма была все та же материальная сила, приложенная все к той же грубой материи; и когда рухнула эта основа, то вместе с ней, с криком ужаса людей, построивших на ней все свои верования и всю свою жизнь, рухнуло и это мистическое движение, повергнув адептов его в безысходное уныние.
Это было сигналом к новому повороту мысли, охватившему все общество. Еще раньше лучшие умы пребывали, как и всегда, в состоянии скептицизма; теперь это безотрадное состояние духа стало всеобщим.
И вот, потекла жизнь без цели, без веры и упования, без надежды выбраться на какой-нибудь путь; человечество стало жить "единым хлебом". Но такая жизнь была не под силу людям с таким сложным духом, для таких людей Она была тяжелее самой смерти. Вы не в состоянии даже приблизительно представить себе всю безотрадность тогдашнего состояния умов, ибо в ваше время, как оно ни было полно горестей и печалей, но путь человечества был все-таки ярко освещен светочами идеалов, у вас была идея прогресса, которая позволяла вам мириться с горькой действительностью в уверенности, что рано или поздно, но прогресс этот приведет к золотому веку, и вы жили, работали и страдали для него. Но в то время люди, умудренные опытом, ни в прогресс, ни в золотой век уже более не верили. И так безотрадна показалась людям эта бессмысленная жизнь без удовлетворения в настоящем, без всякой цели в будущем, что снова зашевелился ум, захотелось еще раз попытаться разорвать путы, которыми связано было человечество. Собрался великий съезд всех лучших представителей человечества, весь цвет ума его, чтобы коренным образом пересмотреть историю минувших веков с целью еще раз попытаться решить вопрос, нельзя ли выйти из этого мучительного положения, из этой жизни, сотканной из стонов и слез, нет ли какого-нибудь пути устроить счастье на земле, нельзя ли найти какой-нибудь смысл жизни. Десять лет продолжались работы этого съезда, но лучше было бы никогда ему не собираться. Ученые, статистики и историки с непреложной точностью доказали, что никакое улучшение в положении человечества немыслимо. История, теперь достаточно длинная и разнообразная, подтверждала это с полною ясностью и неопровержимостью: человечество, подчиняясь закону ритма, качалось, как маятник, переходя от ухудшения к улучшению, от улучшения к ухудшению, и так, казалось, должно было продолжаться во веки веков. Прогресс вел не к счастью, а только к усложнению, он развивался вне всякого отношения к счастью, по особым законам, общий же уровень благополучия людского с каждым веком все более и более понижался. И ученые-биологи указывали на причину этого, причину, которую не во власти людей было устранить и которая заключалась в том, что условия существования людей изменялись быстрее самого человека, вследствие чего последний не имел возможности к ним приспособиться, и чем быстрее шло изменение условий, тем более отставала природа человека, тем менее она была в соответствии с этими условиями. А несоответствие организма с условиями есть синоним страдания. - Никто не мог указать новых путей, все, что можно было придумать, было уже испробовано раньше, иногда по несколько раз, и ни к чему не приводило. - Психологи, со своей стороны, доказывали с математическим анализом в руках, что счастье немыслимо даже в теории, ибо по мере того, как человеческая природа утончалась, развивалась, как утончались его ум и чувства, усиливалась, в то же время, и его восприимчивость ко всяким страданиям, и эта последняя возрастала даже быстрее первого. В то время как человек-дикарь был мало чувствителен даже к физической боли, в то время как целая масса страданий высшего порядка - умственных и нравственных, были для него совершенно неведомы, человек цивилизованный, кроме физических страданий, которые он чувствовал сильнее дикаря, осужден был испытывать и вторые, еще более тяжелые и мучительные, чем физическая боль. И так шло и дальше. Человек позднейших веков мучился и страдал от таких тонких и неуловимых причин, которые для вас, людей XIX века, были бы совершенно непонятны, он страдал от того, чего вы и не замечали или что вы переносили совершенно легко. Один ужас смерти, этот страшный фантом, вышедший из пучин высшей цивилизации и культуры, совершенно незнакомый первобытным людям и только что начавший зарождаться в ваш век, принял под конец ужасающие размеры и как кошмар давил бедное человечество, отравляя ему и те немногие радости, которые были ему доступны. К этому присоединялись мучения от неумения выразить свои чувства и идеи в художественном образе или от невозможности разрешить какую-нибудь умственную задачу, главным же образом - жгучие мучения скептицизма, полная и вполне ясно осознанная невозможность вырваться из тесных оков, наложенных на наше знание ограниченностью наших органов чувств, нашего ума, невозможность узнать сущность природы и ее законы, сущность нашего сознания, будущность нас ожидающую. Вы, люди XIX века, спокойно останавливались перед этой массивной, непроницаемой стеной или перелетали через нее на крыльях веры, фантазии и воображения, но мы в отчаянии разбивали себе об нее головы!
Так закончился этот достопамятный съезд полной неудачей. Общий вывод его был, что человечество закончило свой процесс эволюции, и что теперь оно находится в периоде диссолюции, процессе, который неминуемо приведет человечество в сюром будущем к конечной гибели. В этом последнем конгресс однако ошибался, как показали дальнейшие события. Эволюция, правда, кончилась, но человечеству предстояло еще пройти следующее за эволюцией состояние - состояние равновесия, которое нами теперь достигнуто, и это состояние при благоприятных условиях может продолжиться на неопределенно долгое время. Конечно, в конце концов, человечество не может избегнуть процесса диссолюции - ибо это мировой закон, но мы сумеем продолжить наш счастливый период равновесия до того времени, когда солнце начнет остывать и жизнь людей на земле станет невозможной - а это целая вечность впереди. Но в то время не- знали, что есть такой еще исход, и, судя по тому, что происходило в человечестве, люди имели полное основание думать, что они, перескочив через сокращенный период равновесия, находятся в состоянии, которое неминуемо ведет их к окончательной гибели. Таков был мрачный общий вывод конгресса.
Итак, конец человечеству! Конец великой драмы, великой трагедии человеческой! Неизбежная близкая гибель - вот что смотрит вам, людям, прямо в глаза...
Как громом поразило тогдашнее человечество это страшное решение конгресса, пронесшееся по земле глухим, зловещим гулом, внося неизъяснимое смятение в сердца людей.
Тогда то наступили самые ужасные времена. Люди, окончательно теперь убедившиеся со всею возможною ясностью в безвыходности своего положения, пришли в отчаяние. А отчаяние есть мать озлобления, и оно стало всеобщим. Смешались все понятия, ненависть воцарилась, люди стали зверьми, брат восстал на брата, сын на отца. Поистине, наступило время, описанное в апокалипсисе, поистине, пора было зазвучать трубе, возвещающей кончину мира. Но никакого звука трубного не раздавалось, слышны были только стоны отчаяния и проклятия людей. Люди, точно обезумели, ходили в каком-то чаду, метались из стороны в сторону, стараясь заглушать с себе ужас жизни и ужас смерти разгулом, пьянством, наркотическими средствами, рядом безумных поступков. Самоубийства размножились до невероятных размеров. Под влиянием этой болезненной атмосферы некоторые из людей пришли к убеждению, что незачем продолжать агонию, что пора, наконец, прекратить существование этого безумного, исстрадавшегося рода человеческого, все равно обреченного на гибель; они составили тайное общество истребителей человечества и, не жалея ни себя, ни других, прибегали к всевозможным средствам самоистребления; они взрывали целые города, отравляли реки и источники, разносили заразу разных болезней. Но большинство, руководясь инстинктом самосохранения, еще крепко держалось за жизнь, и когда истребителей ловили, то с них с живых сдирали кожу или жарили на медленном огне. И это - при свете электричества, с публикой, летающей над кострами в усовершенствованных летучках!
Неизвестно, чем бы все это окончилось, если бы в то время не выделился один человек, благодаря которому события приняли новый оборот. Чтобы дальнейший ход событий был вам понятен, я должен рассказать здесь о замечательном открытии, сделанном на исходе XXI века одним русским ученым, по фамилии Петров. Ему удалось приготовить две жидкости, не имевшие никакого особенно заметного вкуса или запаха, бесцветные и обладавшие тем замечательным свойством, что всякий мужчина, выпивавший некоторое количество сначала одной из них, а спустя некоторое время и другой, становился навсегда бесплодным, причем это ничем почти не отражалось на остальных сторонах его природы. Способ приготовления этих жидкостей он сохранил в тайне, которая передавалась из рода в род в его семье, самые же эликсиры он и его потомки продавали за очень дорогую цену всем желающим, и, благодаря этому, род этого ученого с течением времени разбогател до значительных размеров. Один из потомков доктора Петрова и был тот человек, о котором я выше упомянул. Он вошел в состав общества истребителей человечества и предложил ему свое средство, как более безопасное для членов общества, чем яд и другие орудия истребления, и менее жестокое, и, в тоже время, пожертвовал ему все свои громадные средства. Тогда стали применять этот эликсир, или "стерилизатор", как он назывался, незаметно давая его пить массе людей, которые после этого оставались навсегда бесплодными, и таким образом надеялись со временем истребить все человечество; целые города, целые обширные районы и местности вымирали благодаря этому средству через два поколения.
Главным мотивом этих действий была не рассудочность, а страсть, порожденная озлоблением и отвращением к испорченным людям, и потому на них-то, на наиболее испорченных из них прежде всего и направлено было орудие истребления, лучшие же люди оставлялись пока в покое. И это дало неожиданные результаты: в странах, где общество истребителей имело много адептов, и где им удавалось достигнуть вымирания в больших размерах, в них, несмотря на приток новых дурных элементов извне, стало замечаться некоторое улучшение, в них оказывалось больше добрых людей, появлялось больше порядка и благоустройства и жизнь становилась легче. Правда, нигде такое улучшение не продолжалось долго, ибо наплыв новых дурных элементов вскоре уничтожал все хорошие результаты, но это навело общество истребителей на новую мысль: употребить стерилизатор не для истребления рода человеческого, которое к тому же оказывалось гораздо труднее достижимым, чем предполагалось, а для его обновления. И вот общество истребителей переименовало себя в общество обновителей. Предполагалось обезпложивать, стерилизовать все, что было дурного в людях, все грубое, эгоистичное, бессердечное, алчное, болезненное, и оставлять для продолжения рода только одни хорошие элементы. В этом видели единственный исход, и одна эта возможность исхода наполнила восторгом сердца обновителей. Открылась вновь цель для существования человечества и, следовательно, цель для жизни людей; эта жизнь сразу получила опять смысл, и все ее ужасы стали казаться менее мрачными, ибо на далеком горизонте человечества засверкали вновь золотые купола царства счастья. Очистивши собственный состав, общество обновителей, одухотворяемое надеждой на лучшее будущее, энергично принялось за работу и, осторожно распространяя свои идеи, увеличивая своих тайных адептов, вскоре сделало чрезвычайные успехи. Были страны, где вся власть, все правительство находилось всецело в руках членов этого общества. Но вскоре же появились и подозрения на него: как ни хранилась тайна, суть дела обнаружилась, и начались преследования. Но все ими переносилось во имя великой идеи, которая их теперь оживляла.
Между тем общество убедилось, что все человечество целиком обновить было невозможно. Дурные элементы, истребляемые им, в таком же количестве нарождались вновь, а хорошие, оставляемые для продолжения рода и его улучшения, под влиянием общих неблагоприятных условий, в которых находилось человечество, сами портились, становясь дурными, и в общем человечество не улучшалось. Работа их оказывалась работой данаид. Поэтому было решено сделать более систематический опыт обновления в какой- нибудь отдельной стране, в которой общество обновителей было бы полным хозяином и, прочно утвердившись там, из этого центра постепенно захватывать все больший и больший район. С этой целью оно купило государство Конго у латинского союза, которому оно тогда принадлежало, переселило туда, сколько могло, лучших элементов человечества и всех своих членов и заперло границы для того, чтобы через них не могли проникнуть вредные влияния извне, и здесь стало открыто производить опыты искусственного подбора людей. К сожалению, выбор общества этой именно страны был неудачен. Конго в то время составляло важный стратегически пункт в коммерческом отношении, и потому англосаксонские народности протестовали против закрытия границ и недопущения привоза и провоза своих товаров. С характеризующими эту расу алчностью и эгоизмом, видя во всем мире только базар для своих ситцев и ножей, эти страны под предлогом безнравственности производимых в Конго опытов и бесчеловечности преследуемых обществом обновителей целей, то есть во имя человеколюбия, совершили величайшее, бесчеловечнейшее преступление. Они послали против нас соединенный летучий отряд, который осыпал всю страну целым градом разрывных бомб. Наш летучий отряд был смят, уничтожен, большинство из нас погибло в это ужасное время, а остальные рассеялись по разным частям земли.
Но идея обновления, на время оглушенная этим страшным ударом, от этого однако не погибла и несмотря на наши неудачи, она делала даже успехи. Сами неудачи послужили нам в пользу, распространив эти идеи повсеместно. Все, что было лучшего, примкнуло к нашему обществу, понимая, что это единственное, что оставалось еще испробовать, и через 20-30 лет оно стало сильнее и многочисленнее, чем когда-либо. Но нам недоставало средств, которые все погибли при нашем погроме в Конго, а так как для достижения наших грандиозных целей нужны были и громадные средства, то первой целью обновленного общества стало сосредоточить в свои руки по возможности больше богатства. С этою целью, собрав все, что можно было собрать путем добровольных пожертвований, оно основало из наиболее благонадежных своих членов акционерную компанию. Эта компания, о принадлежности которой к обществу обновителей, конечно, не было известно, заключала с богатыми фамилиями договоры, в силу которых этим последним обеспечивались на вечные времена доходы с их состояний с тем, чтобы, когда род прекратится, наследником становилась акционерная компания. И так как в то время доходы с капиталов и имуществ получать было трудно, компания же предлагала весьма высокие доходы, то на это пошли очень охотно многие из богатых людей. Оставалось затем давать выпить обеспложивающего эликсира всем мужским наследникам этих фамилий, и через два поколения имущество их переходило к нам. Такой источник обогащения не отличался, конечно, кристальной чистотой, но в ту эпоху на такие мелочи не обращалось особенного внимания, а между тем, благодаря ему, мы без особенного труда сделались обладателями огромных средств, столь необходимых нам для ведения борьбы. В то же время, обновители проникали во все сферы, всюду_внося свою незаметную, но плодотворную работу стерилизации; наш план действий был теперь несколько изменен: мы поставили себе задачей, прежде всего, уничтожить человечество в главной его массе, из остатков его выбрать наилучшие элементы и из них воссоздать путем искусственного подбора новое человечество.
Несмотря однако на все это, мы, может быть, и на этот раз потерпели бы неудачу, главным образом, потому, что сами обновители с течением времени, благодаря дурным внешним условиям, среди которых они жили, стали портиться, и если бы это долго тянулось, то наверное, распалось бы и все наше общество. К счастью, наступили события, которые нам сильно помогли, позволив работать в тишине, незаметно, и сами оказали содействие в нашей работе. На Европу, Америку и Австралию надвигались полчища из Азии. Еще раньше китайцы и японцы овладели всею западною половиной Северной Америки и распространили свое незаметное влияние на Европу и многие другие страны: всюду основывали они свои фактории, забирали торговлю и капиталы в свои руки и, подготовив таким образом почву, монгольское племя, страшно к тому времени разросшееся, темной грознойтучей надвинулось на Европу и на все страны, населенный европейцами. Арийская раса дрогнула перед страшным монгольским драконом, но приготовилась к отчаянному отпору, и завязалась борьба и полилась кровь рекой... Долго боролись с переменным счастьем, с передышками мира, целых 50 лет тянулась эта опустошительная и упорная борьба. Народы страшно обеднели, образование было запущено, нищета, холод, голод довели массы до совершенно скотского состояния. Появились новые болезни от новых неизвестных микробов, сумасшествие развилось до страшных размеров, не хватало домов, чтобы помещать сумасшедших, и они гуляли на свободе, плодясь и передавая потомству свое болезненное состояние, все более и более распространяя и усиливая его. Население сильно поредело, и не будь нас, человечество, по крайней мере, арийская раса несомненно бы погибла. Этим состоянием деморализации мы воспользовались, и тут-то напрягли мы всю свою энергию, дружно, не переставая работать над стерилизацией человечества. Благодаря нашему богатству и нашей сплоченности, мы проникали всюду и к нашим, и к врагам. Мужчины, женщины, молодые девушки, не жалея себя, жертвуя собой для великой идеи, отправлялись в стан врагов в качестве перебежчиков, докторов, прислуги, любовниц, всюду разнося стерилизатор, обеспложивая им всех мужчин, производя всюду незаметное, но страшное опустошение. Азиатов мы решили истребить всех без исключения. Ни монгольская, ни негритянская расы не должны были войти в состав нового, обновленного человечества, ибо ни душевные, ни физические качества их не были для того пригодны; к поголовному истреблению предназначена была также семитическая раса, а также такие народности, как армяне, персы, сирийцы и т. п., издревле уже насквозь прогнившие, алчный, хитрый, эгоистичный характер которых, закаленный тысячелетней наследственностью, не мог бы быть изменен никаким искусственным подбором.
Но вскоре опять постигли нас тяжелые испытания; увлеченные своим успехом, мы стали действовать слишком смело и неосторожно, и опять обратили внимание на нас и на нашу деятельность, нашелся среди нас изменник, Иуда-предатель, который выдал многих из обновителей и открыл все наши планы. Ужаснулись народы, узнав наши замысли и видя, как человечество тает, точно снег под лучами весеннего солнца! Вспомнили тогда старое и с ненавистью кинулись нас разыскивать; кто попадался, того замучивали, детей наших подвергали медленной смерти на глазах родителей. Нас считали какими-то извергами, объявили вне закона, и стоило указать толпе на кого-нибудь как на обновителя, чтобы она грубая, не ведающая, что творит, бросалась на него и растерзывала его насмерть. Но мы все терпели, зная, что недолго уже терпеть, что все эти ужасы не что иное, как последние судороги агонии старого человечества, и выжидая действие стерилизатора. Через два-три поколения ряды наших противников сразу поредели, вся Азия почти вымерла, во всей Европе осталось только несколько миллионов жителей, мы же продолжали беспрепятственно плодиться и, таким образом, к концу XXV века могли уже считать себя хозяевами положения. Власть перешла к нам в руки и мы, наконец, свободно вздохнули. Наш гигантский величественный заговор - заговор кучки людей против человечества - удался!
Глава VI
Теперь наступил второй период нашей деятельности - период организационный, не менее трудный, чем первый. До сих пор мы только разрушали - теперь предстояло созидать.
В нашей деятельности нам предстоял однако серьезный подводный камень. До сих пор в пылу борьбы, среди опасностей мы действовали единодушно, но можно было опасаться, что теперь появятся разногласия, всегда ведущие к раздорам, борьбе, к образованию партий, которые, парализуя друг друга, приводят к печальным результатам. История человечества могла служить для нас достаточным предостережением в этом отношении. Мы отлично понимали, что достигнуть прочных результатов можно было только посредством полного, если не единомыслия, чего достигнуть было бы невозможно - нас было слишком много для этого, - то, по крайней мере, полного единства действий. Только действуя как один человек, без распрей, без раздоров, могли мы рассчитывать на успех. Чтобы достигнуть такого единения, мы решили избрать из своей среды 25 наиболее надежных, наиболее способных, честных и сильных волей людей. Эти 25 человек по истечении нескольких лет должны были избрать из своей среды одного человека, и мы все добр
вольно и торжественно обязались другперед другом безусловно подчиниться ,всем его решениям в течение всей его жизни и действовать согласно его воле без рассуждений, без критики, без малейшего колебания. Всякий спорный вопрос, всякое сомнение подвергалось ему на рассмотрение, и решения его были безапелляционны; мы также добровольно согласились, чтобы всякий, кто изменит этому решению, был бы отвезен на отдаленный изолированный остров и там удержан силой. Вы, вероятно, удивитесь такому решению, вы скажете: один человек может ошибиться. Конечно, может это верно - хотя в данном случае этот человек был поставлен в наилучшие условия, чтобы не ошибаться, - но мы отлично понимали, что зло, которое может проистекать от этого, будет неизмеримо меньше того зла. которое получилось бы от борьбы партий. По смерти главы эти 25 человек, пополнявшиеся собственным своим выбором, избирали нового главу опять пожизненно и т. д. Еще и теперь существуют эти 25 человек и эта абсолютная власть в лице одного человека, но так как организационная работа наша покончена и все идет по раз заведенному порядку, то их деятельность сведена почти до нуля, о них ничего не слышно, они существуют, так сказать, на всякий случай. Их главная роль состоит в созыве общих съездов, в наблюдении, чтобы покровители не уклонялись от общих принципов, на которых основано новое человечество, и в хранении тайны стерилизатора, который мы приберегаем, главным образом, для того отдаленного времени, когда солнце начнет остывать и жить людям на земле станет тяжело. Таким образом устранена была всякая возможность борьбы, несогласия, раздоров и обеспечено единство действий на вечные времена.
Торжественный момент наступал теперь для нашего общества! Великую ответственность брали мы на себя - создать счастливое человечество! С чистыми руками надлежало приступить к такому делу. Поэтому мы, прежде всего, решили очистить собственную среду. Нас было слишком много, чтобы не нашлось и между нами немало всяких дурных элементов; среди отчаянной борьбы, под влиянием всех пережитых ужасов и жестокостей и наш избранный народ должен был отчасти испортиться, и потому с общего согласия дано было право тайному комитету, которому одному известен был способ приготовления стерилизатора, употребить его в действие против своих собратьев для собственного нашего очищения.
В то же время приступлено было к обсуждению дальнейших действий. Предстояло путем искусственного подбора переродить людскую породу, создать из остатков испорченных, негодных людей старого человечества, прежде всего таких людей, которые были бы способны быть счастливыми, а затем -: дать этим новым людям такую организацию, которая обеспечивала бы их счастье навсегда. И тут, прежде всего, возникал трудный вопрос: какова должна была быть эта природа новых людей? Вы уже знаете, как мы принялись искать в истории человечества образцы, которые могли бы служить нам указанием на этом пути, ибо создавать новый тип человека прямо из головы, чисто теоретически, нечего было и думать; такие сложные вещи создавать может одна только природа. Вы знаете, как долгое время наши поиски были безуспешны, как вдруг мы напали на счастливую мысль и отыскали образец вполне счастливых и всегда, при всех условиях довольных судьбою людей - в лице детей и как мы тогда решили видоизменить человеческий тип, приблизив его по возможности и физически и духовно к детскому типу. Надлежало, иными словами, создать породу детей, способных плодиться.
Это открытие ознаменовало великий для нас день, ибо оно сразу ярким светом осветило нам путь. Люди того времени сделались свидетелями небывалого еще взрыва восторга и радости; встречаясь друг с другом, все обнимались как братья со слезами умиления на глазах, все радостно поздравляли друг друга с этим важным открытием, сразу устранявшем все сомнения в успехе предпринимаемого нами дела. И, как все великие открытия, оно отличалось необыкновенной простотой и ясностью; каждый удивлялся, как он сам раньше не дошел до этой столь простой и очевидной мысли; и истинность ее была так очевидна и ясна для всех и каждого, что она немедленно же была принята без всяких споров и дебатов. И так же, как все великие открытия, эта мысль была чревата последствиями: из нее просто и естественно, как бы сами собой вытекали все остальные великие принципы, которые легли в основу новой организации человечества. И действительно: если человечество, чтобы быть счастливым, должно состоять из людей-детей, существ простых и наивных, то отсюда само собою следовало, что они одни не могут существовать, что к ним должны быть приставлены другие, взрослые существа в качестве их покровителей и руководителей. Далее: если человечество будет состоять в массе своей из детей и из небольшой кучки покровителей, то, очевидно, необходим был еще какой-нибудь рабочий элемент, который доставлял бы людям средства к жизни, ибо не детское дело в поте лица своего добывать хлеб свой насущный. Впрочем, необходимость этого последнего вытекала еще из другого соображения. Исторический опыт с достаточной ясностью доказал, что главным источником всех несчастий человечества, постоянной помехой устроить разумно свою жизнь на земле всегда был обязательный физический труд, столь несвойственный человеческой природе, столь ненавистный человеку. Это было вечным камнем преткновения на его пути в поисках за счастьем, и необходимо было во что бы то ни стало и навсегда спихнуть этот камень с его пути. Но как это устроить? - опять задача бесконечно трудная? - Много было положено труда на ее разрешение, много способов предложено было с этою целью. Одни хотели воспользоваться уже готовым элементом - рабочими, почти что уже рабами, рассчитывая, постепенно унижая и придавливая их, через несколько поколений настолько понизить их сознательность, чтобы они не чувствовали своего положения; но это громадным большинством отвергнуто было с негодованием. Другие предлагали прибегнуть к высшим человекообразным обезьянам, приручить их, усовершенствовать и развить их настолько, чтобы он могли исполнять все необходимые работы, но это было средство слишком медленное и малонадежное. Наконец, после долгих исканий и горячих споров решено было остановиться на следующем плане: собрать во всех глухих углах земного шара остатки самых низших рас, влачивших еще кое-где свое печальное, полуживотное существование, размножить их, развить в них искусственным подбором инстинкт преданности нам и приспособить их для наших целей, образовав из них особую породу существ, совершенно отличную от остальных людей; дабы труд, к которому предназначались эти существа, не казался им тяжелым бременем; предполагалось развить в них еще инстинкт труда, а чтобы они не чувствовали себя несчастными и униженными - не развивать в них сознания своего положения.
Таким образом, сложность задачи нашей сразу удваивалась: предстояло подбором выработать из переразвитых и испорченный людей - существ детски простых, и из недоразвитых, полуживотных людей - особую породу рабов с преобладанием в них инстинкта над сознанием и разумом.
Но из великого открытия, бросившего уже столько света на нашу работу, вытекало еще одно последствие: люди-дети не могли жить тою сложною жизнью, которая создана была многовековою цивилизацией и культурой, такая жизнь была бы несвойственна их природе, да и все это сложное здание цивилизации не могло бы поддерживаться ни ими, простыми и беспомощными, ни малочисленными покровителями, ни полусознательными рабами. И вот, сама собою вытекала необходимость упростить жизнь до последней возможности, уничтожить все усложнения и ухищрения цивилизации, которые всегда так мало были пригодны для счастья человека, а для простого детского счастья становились и совсем ненужными. И этот вывод тоже вполне оправдывался историческим опытом, с избытком доказавшим, что чем жизнь человечества была проще и бесхитростнее, тем более всегда в ней находилось золотых крупиц счастья.
Целых десять лет продолжалась разработка этих основных вопросов, в которой принимала участие вся аристократия тогдашнего человечества - аристократия не в пошлом смысле вашего времени, а в смысле цвета ума и сердца его. Многие гениальные личности, все ученые, издавна уже входившие в состав обновителей, все, что оставалось честного и благородного в человечестве, вложило в эту работу свою душу, свои способности, свои знания и, наконец, когда вопросы эти достаточно выяснились, наступил великий, торжественный, незабвенный день 15-го мая 2496 года, когда все мы собрались для окончательного установления основных принципов, осуществление которых отныне должно было стать целью всей нашей жизни. На этом собрании и постановлены были следующие основные принципы, которые все мы твердо знаем наизусть, ибо они суть те краеугольные камни, на которых зиждется все здание человечества:
1. Человечество не может быть счастливо, пока люди не переродятся путем искусственного подбора и не уподобятся детям, - ибо только дети могут быть счастливы.
2. Человечество, составленное из людей-детей, не способно оставаться счастливым без постоянного руководства покровителей.
3. Человечество не может быть счастливо без крайнего упрощения жизни, возможного без лишений только под тропиками.
4. Человечество не может быть счастливо без рабов, которые освободили бы его от труда, ибо труд всегда был источником всех зол на земле. Но рабы не должны тяготиться своимтрудом и не должны сознавать своего положения.
5. Человечество не может оставаться счастливым, размножаясь неограниченно и вне искусственного подбора.
6. Человечество может оставаться вечно счастливым только тогда, когда оно откажется от прогресса и навеки сохранит сво" новое устройство неизменным.
О мой друг! повторяя вам эти столь хорошо знакомые нам истины, я чувствую всего себя охваченным великим волнением ! Это всего только несколько фраз, это не более как несколько мыслей, но когда вспомнишь и представишь себе, что от этих мыслей и только от них зависит: будут ли миллионы человеческих существ ходить, мрачно опустив головы, с тоской на сердце и проклятиями на устах, или же - они будут проводить жизнь среди безмятежного веселья, смеясь, играя и радуясь своему бытию, то все существо проникается благоговейным трепетом перед удивительной силой, в этих мыслях сокрытой!..
Когда эти 6 принципов были приняты, то все присутствующие встали и произнесли торжественное друг перед другом обещание как за самих себя, так и за всех своих потомков: свято хранить их во веки веков неизменными, считая их не подлежащими даже обсуждению, а новую жизнь, устроенную согласно им, ни в чем не изменять в течение 200 лет.
Но чтобы эти принципы лучше усвоились грядущими поколениями и, в то же время, чтобы яснее отметить новый поворот в жизни человечества, найдено было нужным рядом с ними составить еще десять заповедей, которые могли бы служить на все века руководством людям в их новой жизни. Эти заповеди отцов наших заменяют нам теперь прежние десять заповедей, которые при новом строе жизни сделались по большей части непригодными и неприменимыми. Какой, в самом деле, может иметь для нас смысл заповедь: не укради - когда у нас нечего и некому украсть; или: не убий - когда никому и в голову прийти не может убить; или: не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна, - когда у нас нет ни судов, ни свидетельств; или: не прелюбы сотвори - когда у нас все прелюбы сотворяют; или помни день субботний - когда у нас все дни субботние!
И мы твердо верим, что на этот раз эти заповеди будут вечны и навсегда последуют за человечеством в неизмеримую даль веков...
Вот они, эти десять заповедей, данных новому человечеству.
Заповедь I. Будьте просты и наивны, как дети.
Заповедь II. Живите на земле радостями земными.
Заповедь III. Не усложняйте жизнь, дабы она не была вам бременем, и не живите вне тропиков, ибо только здесь она будет проста и легка.
Заповедь IV. Любите и слушайтесь своих покровителей, а вы, покровители, берегите людей, как своих собственных детей.
Заповедь V. Не трудитесь для добывания себе пищи, имейте для труда рабов, но пусть они не сознают своего положения, дабы не мучиться.
Заповедь VI. Не поклоняйтесь прогрессу: в нем яд, который вас погубит.
Заповедь VII. Не плодитесь вне целей искусственного подбора.
Заповедь VIII. Не противьтесь злу: пусть оно умирает своею смертью.
Заповедь IX. Да будет у вас счастье в красоте и красота в счастье.
Заповедь X. Да не ведают люди о смерти, дабы не бояться ее.
Десятой заповеди, впрочем, в то время еще не было дано, и если я ее здесь привел, то потому, что не сомневаюсь, что она будет принята на предстоящем общем съезде покровителей. Но и тогда она, конечно, останется известной только нам одним.
Так закончились подготовительные работы, и теперь надлежало приступить к осуществлению теории на практике. Не стану вам много рассказывать о ходе наших работ, вы все это найдете подробно изложенным в книге, которую я вам дал; прибавлю только несколько главнейших фактов. Прежде всего, мы выбрали с большою тщательностью около 2000 женщин, отличавшихся красотой и здоровым, жизнерадостным характером, простым и детским сердцем, и поселили их на островах Таити; но скоро, после нескольких лет наблюдений, пришлось исключить из них по тем или другим причинам, главным образом потому, что юность тела и духа их оказалась недостаточно прочной, почти половину, а из оставшейся 1000 с небольшим, спустя еще несколько времени, мы сделали новый выбор, исключив тех, которые подвержены были тропическим болезням, и остановились окончательно только на 600 с небольшим из них. Что касается мужчин, то ввиду того, что вначале мы решились применять исключительно искусственное оплодотворение, наш выбор мог быть еще строже, и мы остановились только на 25, выбрав и тут преимущественно таких, которые с возрастом мало старели и телесно и духовно. Итак 650 женщин и 25 мужчин - вот каков был своеобразный, оригинальный кадр будущего человечества! За основу для него мы выбрали латинскую расу - французов, итальянцев, испанцев - как такую, которая отличается наиболее легким, веселым и жизнерадостным характером и в физическом отношении представляет выдающиеся типы красоты; особенно много родоначальников и особенно удачных женщин доставили нам потомки древних испанцев в бывших южноамериканских колониях их. К этому ядру мы прибавили некоторое количество крови славянской ввиду симпатичной мягкости их характера и белокурой кимврийской расы, главным образом ради разнообразия физической красоты, для того, чтобы будущее человечество не было лишено и представителей типа блондинов; несколько женщин, отличавшихся особенно выдающейся красотой, дали нам также расы греческая и грузинская. Охотно остановились бы мы на полинезийской расе - этих готовых уже детей человечества с их необыкновенно милыми, симпатичными, чисто детскими чертами характера, если бы, увы! этому не воспрепятствовали их некрасивые черты лица.
Женщины, как я сказал, с самого начала были гораздо многочисленнее мужчин, и это неравенство полов мы сохраняли в течение первых шести поколений, чего достигнуть было нам нетрудно, так как наука того времени давала полную возможность получать по произволу тот или другой пол. И такое неравенство полов было тогда совершенно необходимо: для более быстрого размножения человеческого рода нам ведь нужны были женщины, а не мужчины, и это было тем более необходимо для первоначальных поколений, что в первое время мы давали плодиться только одной половине женщин каждого поколения, выбирая лишь самых лучших, самых отборнейших из них. Но благодаря этому тогдашнее, миниатюрное еще человечество, все состоявшее почти из одних только женщин, представляло из себя весьма оригинальное зрелище - это было нечто вроде царства амазонок. В третьем поколении, например, было около 7000 женщин и только 30 мужчин! В четвертом поколении от 3 500 женщин третьего получилось 16 000 женщин и опять только около 35 мужчин! Только начиная с седьмого поколения, когда женщин было уже 150 000, начали мы производить мужчин, но лишь в настоящее время отношение между полами начинает получаться нормальное.
Таким же точно образом поступали мы и с теми 700 дикарями, которых с большими трудностями удалось набрать нескольким экспедициям, посланным во все углы земного шара для стерилизации всех оставшихся еще нетронутыми обитателей его. В самом начале нашей деятельности пришлось временно оставить около миллиона прежних людей, преимущественно из рабочего сословия, продолжавших жить вне тропиков, подальше от очагов нового человечества и доставлявших всем нам средства к существованию; но почти все они были стерилизованы, и остатки их быстро таяли, делаясь, впрочем, и ненужными по мере возрастания численности наших рабов.
Что же касается покровителей, то количество их сравнительно мало возросло, оно едва только удвоилось за последние два века; и к себе не переставали мы применять искусственный подбор, выбирая для продолжения рода только лучших из нас. Этим подбором мы усовершенствовали свою нравственную природу; развили в себе любовь к людям, повысили красоту как нас самих, так и наших женщин и увеличили долголетие нашей жизни.
Вот, в кратких словах, что совершилось с человечеством за последние восемь веков.
- И теперь, - добавил Эзрар, - и лицо его при этом озарилось светлой улыбкой - небо наши чисто и ясно и даже на горизонте человечества, насколько умственный взор может его охватить, не видно ни малейшего облачка...
Глава VII
Так кончил он свой рассказ, грозный, ужасный и, в то же время, радостный, светлый. Впереди меня сияло чудное ясное небо, но позади еще мерещились мрачные, черные грозовые тучи, навсегда теперь отошедшие вглубь веков. Но вот точно молния сверкнула в этих тучах, мгновенно озарив их ярким светом, - и я вдруг понял теперь со всею ясностью смысл совершившихся событий, я понял, каким путем достигли люди своего столь давно желанного счастья, так упорно не дававшегося им в руки. И я понял, почему оно так упорно им не давалось. Ведь счастье, в сущности, было всегда так близко, так доступно, так мало для этого всегда было нужно. Нужно было только одно: чтобы люди согласились, сговорились схватить его одним дружным движением руки. Но в этом-то и заключалось непреодолимое затруднение. Как могут десятки, сотни миллионов людей в чем бы то ни было сговориться, как могут они сознательно сойтись на чем-нибудь, хотя это что-нибудь и было бы до очевидности ясно и нужно для них всех. Только тогда, когда выделилась из человечества кучка людей, единодушно мысливших и хотевших, когда эти несколько волей слились в одну однообразную, могучую, сильную в своем единении волю, уничтожившую все прочие, - могло совершиться то дружное движение руки, которое было необходимо, чтобы схватить счастье. Пересоздать человечество, создать счастье на земле - этого не в состоянии было исполнить само человечество, для этого оно было слишком бессознательной, слишком стихийной силой. Для этого нужно было, чтобы из этой стихийной массы выделилась особая, сконцентрированная сознательная эссенция человечества, особый как бы орган его, орган устрояющий и направляющий, нечто надчеловеческое или внечеловеческое, что повело бы человечество не по слепым, неведомым путям, какими оно шло прежде, а по наперед намеченной дороге, наперекор даже стихийным силам природы, принужденным покорно склонить свои головы перед более могучей сознательной силой воли.
Только немногие могли в чем-нибудь сойтись и сговориться, и в самой этой малочисленности прежних обновителей, теперешних покровителей, и была их непреодолимая сила. Только так могли они выйти из среды стихийного человечества, стать в стороне от него и со стороны всесильно влиять своей волей на его судьбы. И чтобы осуществить эту волю, им необходимо было уничтожить остальные бесконечно разнообразные и потому друг друга уничтожающие воли; да, необходимо было истребить старое, дряхлое человечество, оставивши только одну зародышевую плазму, чтобы из нее воссоздать новое человечество - мне теперь и это стало совершенно ясно и понятно. Пересоздать человечество нельзя, как нельзя омолодить старый, дряхлый организм, его можно было только создать сызнова - и в этом был также залог их успеха.
И я понял также, что мысль, счастье и труд - это три такие элемента, которые несоединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несоединимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетво- рился один - в покровителях, другой - в друзьях, третий - в рабах, стало возможным появление на земле и самого счастья в чистом его виде. Насильственно вместе соединенные они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос.
И я еще понял, что для того, чтобы все это уразуметь, и, уразумев, - единодушно захотеть, и, захотев, - достигнуть своей цели, нужно было человечеству предварительно испить чашу горечи всю до дна. И из рассказа Эзрара я увидел, что оно, бедное, испило ее до последней капли! Да, все, все мне теперь стало вдруг удивительно ясно и понятно.
Но Боже! на какую высоту я поднялся! Я едва различаю, что совершается у ног моих...
- Надеюсь, - снова заговорил между тем Эзрар, - что своим рассказом я несколько утолил ваше любопытство, и если это так, то взамен я также попрошу вас об услуге. Вот два дня, как вы живете среди нового человечества, вы видели нашу жизнь, вы многое узнали из разговоров со мною, скажите же совершенно искренно и откровенно, как вы находите: счастливы ли теперь люди? Вы человек свежий, и ваше мнение поэтому меня особенно интересует.
- Счастливы ли? О да, ответил я после нескольких минут раздумья, несомненно, счастье у вас есть, и гораздо больше, чем было его у нас, а главное - горя у вас нет. Но... я боюсь, что наши люди нашли бы ваше счастье все-таки малоценным. Оно какое-то элементарное и, кроме того, слишком материальное, слишком чувственное, в нем так мало духовного элемента. Дети, действительно, всегда счастливы, и им для этого немного нужно, но поэтому же оно и неполное, не глубокое, не серьезное - это ребячье счастье. Хорошо, конечно, и такое счастье, но разве это идеал, разве это такое состояние, при котором не оставалось бы больше ни к чему стремиться! Я могу представить себе иное счастье, более духовное, заключающееся, например, в наслаждении, доставляемом познаванием, мышлением, творчеством; преодолением препятствий, самоотвержением. Наконец, для верующих существует еще высокое наслаждение в любви к высшему существу, в стремлении к нему приблизиться. Ничего этого у вас нет. Не находите ли вы, что этим вы понизили уровень человеческого духа?
- Понизили? О да, да! - с живостью воскликнул он, - это верно, мы понизили уровень человеческого духа! мы упростили его! Такой высоты, до которой достигали иногда люди прежнего человечества, никто из наших друзей не достигает и не достигнет - об этом мы позаботимся! Но неужели вы не видите, что все, что нас окружает, все человечество, как оно есть, вся наша жизнь, все, что мы совершили и еще совершаем, все наши принципы, все, решительно все, есть не что иное, как сознательное осуществление этой одной основной идеи, величайшей из всех идей, когда-либо появлявшихся на земле, - идеи упрощения духа. Вот 200 лет как она царит над людским миром, она одна теперь им управляет, она всемирна, и, кто знает, быть может ее могущество еще более разрастется и расширится, быть может она распространится и за пределы земного шара и из всемирной станет когда-нибудь вселенской…
Да, мы упростили дух, и мы сделали это совершенно сознательно и намеренно. У прежних людей этот уровень был слишком приподнят; такой подъем духа, такие высокие порывы ума и чувства были неестественны для человека, несовместимы с жизнью его на земле, несовместимы со счастливой на ней жизнью. Вы и ваши преемники жили духом слишком широко, не по средствам, отпущенным природой, и, как всякая жизнь не по средствам, она неизбежно должна была вести к банкротству. Она и привела к нему и к его последствию - страданиям. Пусть духи - если они есть - живут главным образом или даже исключительно духовными интересами, но такие земные телесные существа, как люди, сотканные из нервов, пусть живут в свойственном им мире - мире объективном - радостями впечатлений, прежде всего, и радостями духа только постольку, поскольку они не мешают первым. И потом, не забудьте, что если мы понизили дух, то, в то же время, мы его и повысили, ибо до такого упадка, до которого доходили люди прежнего человечества, и притом большинства его, у нас они никогда не доходят и не дойдут. У нас нет ни гипертрофии, ни атрофии духа.
Я знаю, вы с своей точки зрения можете возразить мне на это, что и в земном человеке есть дух, и он, этот дух, есть даже самая важная и существенная часть его, и что если в нем дух есть, если есть духовный мир, то неизбежное следствие этого то, что и на земле человек существует ради этой существеннейшей части своей природы и что его кратковременное пребывание на ней не может быть ничем иным, как подготовлением к иному, более долговременному существованию вне земных интересов. И вы можете упрекнуть нас в том, что мы забываем эту отдаленную, но более важную цель, заботясь лишь о временном, земном существовании людей.
Возможно, что все это так. Мы скептики и потому готовы допустить и эту возможность, и тогда вы будете правы, давая жизни человека на земле такое назначение. Но вы будете не правы, если упрекнете нас в том, что мы ничего не делаем для подготовления людей к возможному иному существованию. Ибо если все это и так, как вы себе представляете, то все-таки наши люди, когда они явятся в другой, духовный мир такими, какие они есть, то есть невинными и добрыми детьми, то они предстанут вполне подготовленными для всякой иной жизни. Это будет чистый, неиспорченный материал, из которого легко можно будет сделать все, что угодно, и в сохранении этого материала чистым и неиспорченным и состоит тогда наша задача. И мы ее исполняем. Мы и тут правы, превратив людей в детей, "ибо их есть царствие небесное", как сказал ваш великий учитель.
Но заметьте, что если нас и ждет в будущем такая чисто индивидуальная духовная жизнь, в которую вы так сильно верите, то совершенно неизвестно еще, какова она будет. Вы, конечно, не сомневаетесь, что в конце концов она будет сплетением неизъяснимых радостей - ибо вам так этого хочется, вы так жаждете радостей! Возможно, но возможно также и то, что не радостями и блаженными восторгами встретит нас эта жизнь, а великим разочарованием, томлением и вечной неудовлетворенностью... И тогда, быть может, оглянутся наши друзья - уже не дети, а взрослые духи - на счастливые дни, проведенные на этих счастливых островках, и позавидуют они. быть может, своему счастливому детству. Не придется ли нам тогда и там предпринять ту же работу, которую мы совершили здесь, не будет ли и там наша задача состоять в упрощении жизни, в. понижении уровня духа с целью доставить ему хотя простое, но прочное счастье!
Оставим же духовное счастье до другого, духовного мира, если он есть, а пока - дадим людям немного земного счастья! Если же вы умеете здесь, на земле, соединить то и другое вместе - то научите нас: мы этого не умеем.
Научить! О Господи, но как же я научу его, когда и сам этого не знаю! Да и возможно ли соединить несоединимое?
И я молчал и только наслаждался той высотой, на которую слова Эзрара подняли мой дух, наслаждался, как должен наслаждаться орел, парящий в поднебесье, и, как ему, все события, все предметы казались мне в ином виде, в иных соотношениях, чем прежде. Он открыл мне горизонты, доселе мною совершенно невиданные, и я чувствовал, как во мне совершается внутренний переворот. Я еще не был убежден - но я уже убеждался...
Глава VIII
Было уже поздно, и по приглашению Эзрара я вошел в его палатку и лег на постель его сына.
- Спите, - сказал он, - вам давно пора отдохнуть. А я еще немного посижу у огня и помечтаю.
Но я не мог заснуть, я был слишком взволнован всем, что я узнал, обилием всех впечатлений. Ворочаясь с бока на бок, я, наконец, решился встать и выйти из палатки. И тут я увидел зрелище, которое приковало все мое внимание. Перед костром все еще сидел старик, но не один: вокруг него собралось человек 8-10 друзей, сидевших и лежавших в самых разнообразных и живописных позах. Все жадно впивались глазами в лицо старика, рассказывавшего им какую-то фантастическую сказку, видимо, сильно их заинтересовавшую. Луна взошла и освещала своим металлическим светом всю эту красивую группу, все эти тела, казавшиеся в своей неподвижности статуями, вылитыми из серебра.
Эта мирная, своеобразная картина, эта светлая, теплая южная ночь, этот лунный свет, под влиянием которого все предметы, все очертания деревьев, пальм удваивали свою таинственную поэтическую прелесть, эти изящные тела, принадлежащие таким чистым, добрым, милым существам, - все это произвело теперь на мои возбужденные нервы ошеломляющее впечатление. Одна из женщин сидела, прислонившись плечом к старику, и, слегка наклонив свою прелестную, окаймленную темными кудрями головку, задумчиво смотрела вдаль. Лунный свет падал ей прямо в лицо и я, как загипнотизированный, глядел на нее и не мог оторваться. Я стоял как раз напротив нее; она увидела меня, но не сделала никакого движения, только выражение лица ее изменилось: оно сделалось сосредоточенно-грустным, и пристальный взор ее с какой-то непонятной силой проникал мне прямо в душу, и от этого упорного взгляда ее мне стало бесконечно жутко. В то же время, все кругом начало сливаться и исчезать, осталась только одна эта женская головка, ярко освещенная лунным светом. И вдруг, о ужас! Лицо ее отделилось, заколыхалось в воздухе и медленно, плавно стало приближаться ко мне. Кровь застыла у меня в жилах, ужас и тоска сдавили мне сердце, и я хотел вскрикнуть - но не мог. А лицо это, мертвенно бледное, с зеленоватым металлическим блеском, все продолжало приближаться и, наконец, придвинувшись ко мне вплотную, своими широко раскрытыми неподвижными глазами взглянуло на меня в упор, и я в смертельном ужасе громко вскрикнул...
- Костя, милый, что с тобой, - заговорила мать моя, подбегая к моей постели, на которой я лежал, приподнявшись на локте, не понимая еще, что со мной и где я. Тяжелая тоска продолжала давить мне сердце, и я рыдал тяжело, как рыдают только взрослые, из глубины души.
- Что с тобой? Успокойся, дорогой мой мальчик, ты, верно, увидел дурной сон, продолжала она, обнимая и успокаивая меня.
- Света, света скорее! Зажги свечи, - крикнул я.
Но мать побежала отворять ставни. Так как было уже утро, и на дворе рассвело.
Из окон я увидел серое небо, хлопья снега, падавшего на землю, покрывая сплошной белой пеленой все неровности почвы, крыши строений, облепляя голые сучья деревьев. Свет я получил, но какой он был печальный, какой серый, какой холодный. А там, где-то вдали, в бесконечной дали воображения уже начали понемногу тускнеть чудные яркие картины, только что мною виденные с такою отчетливою ясностью, покрываясь какой-то легкой дымкой - дымкой забвения.
Итак - то был сон!
И мне не суждено вкусить радостей безоблачного счастья, к которому я был так близок, которого я почти касался рукой. Не суждено никогда! Никогда! хотя бы я прожил еще 100, 200, 300 лет...
И я закрыл глаза, чтобы еще раз возможно яснее представить себе чудные видения прошлой ночи. Вот они, мои дорогие друзья, я как будто их еще вижу... вот она, дивно красивая Лорелей, Стелла, вот они все, красивые, стройные, молодые, беззаботно смеющиеся, вот она, эта поэтическая бухта, вот и он, мой милый, дорогой Эзрар, я как будто еще чувствую его руку в своей, как будто слышу его тихую умную речь... вот она, эта изящная картина обедающих, живой каскад, танец мотыльков... О, Эзрар! как ты, бедный, огорчишься, когда заметишь мое исчезновение...
Но что это, я, кажется, еще грежу, ведь то был сон!
Но что не было сном - это мое возвращение к действительности. Печально было мое пробуждение. Опять я среди противных людей - алчных, грубых, глупых, бессердечных людей. Опять войска, фабрики, проценты, кабаки, школы, грубый рабочий, бьющий спьяна своих детей, тонкий вельможа, продающий свою совесть, честный труд до седьмого пота, бедный ученый в затхлой атмосфере лаборатории... Опять ужас смерти неизбежной, неотвратимой.
Не увижу я более и наготы. И не нужно! Прикрывайте, люди, свою наготу, наготу тела - одеждой, а наготу души - лицемерием. И то и другое у вас так некрасиво,
О, зачем увидел я этот сон! Как безотрадно отныне станет жить на земле! И кто захотел надругаться над моей и без того изболевшей душой? Какое жестокое, безжалостное существо послало мне эти яркие, радостно трепетавшие, золотисто-розовые лучи, которые так скоро потухли и после которых действительность кажется еще мрачнее.
И если то не был вещий сон, то что же ждет человечество впереди?
О люди, люди! О безумные, о несчастные люди, неужели вы никогда не осуществите мой сон!?
Приложение:
"ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР"
(Ф. М. Достоевский "Братья Карамазовы", часть вторая, книга пятая, глава IV)
- Ведь вот и тут без предисловия невозможно, - то есть без литературного предисловия, тьфу! - засмеялся Иван, - а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, - тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, - тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену мадонну, ангелов, святых, Христа и самого бога. Тогда все это было очень простодушно. В "Notre Dame de Paris" ("Собор Парижской богоматери", фр.) у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при, Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: "Le bon jugement de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie",("Праведный суд пресвятой и всемилостивой девы Марии", фр.) где и является она сама лично и произносит свой bon jugement. (праведный суд, фр.) У нас, в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и "стихов", в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда - в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): "Хождение богородицы по мукам", с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее "по мукам" архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то "тех уже забывает бог" - выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая богоматерь падает пред престолом божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда бог указывает ей на прогвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, - то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят господа и вопиют к нему: "Прав ты, господи, что так судил". Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: "Се гряду скоро". "О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный", как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку:
Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.
И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, "подобная светильнику" (то есть церкви), "пала на источники вод, и стали они горьки". Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: "Бо господи явися нам", столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их "житиях". У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что:
Удрученный ношей крестной.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.
Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу - к мучающемуся, страдающему смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу божию в стране ежедневно горели костры и:
В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.
О, это конечно, было не то сошествие, в котором явится он. По обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, "как молния, блистающая от востока до запада". Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему; он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на "стогны жаркие" южного города, как раз в котором всего лишь накануне в "великолепном автодафе", в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem gloriam Dei*(к вящей славе господней, лат.) Он появился тихо, незаметно, и вот все - странно это - узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: "Господи, исцели меня, да и я тебя узрю", - и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: "Осанна!" Это он, это сам он, - повторяют все, - это должен быть он, это никто как он. Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. "Он воскресит твое дитя",- кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: "Если это ты, то воскреси дитя мое!" - восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" - "и восста девица". Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, югда сжигали врагов римской веры, - нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и арабы его и "священная" стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и "бездыханная" севильская ночь. Воздух "лавром и лимоном пахнет". Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается, при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему:
- Это ты? Ты? - Но, не получая ответа, быстро прибавляет: - Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь, - прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.
- Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? - улыбнулся все время молча слушавший Алеша, - прямо ли безбрежная фантазия, или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное qui pro quo.("одно вместо другого", путаница, недоразумение, лат.)
- Прими хоть последнее, - рассмеялся Иван, - если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического - хочешь qui pro quo, то пусть так и будет. Оно правда, - рассмеялся он опять, - старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли рав- но нам с тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девя- носто лет молчал.
- А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?
- Да так и должно быть во всех даже случаях, - опять засмеялся Иван. - Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: "все, дескать, передано тобою папе, и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и нe приходи теперь вовсе, не мешай, до времени по крайней мepe". В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. "Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? - спрашивает его мой старик, и сам отве- чает ему за него, - нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свобода, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот ты теперь увидел этих "свободных" людей, - прибавляет вдруг старик со вдумчивою смешкой. - Да, это дело нам дорого стоило, - продолжает он, строго смотря на него, - но мы докончили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?"
- Я опять не понимаю, - прервал Алеша, - он иронизирует, смеется.
- Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. "Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали. - говорит он ему. - ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?"
- А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? - спросил Алеша.
- А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.
"Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, - продолжает старик, - великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы "искушал" тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо "искушениями"? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в клигах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных - правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества - то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.
Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: "Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, - ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои". Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!" Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" - вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, с катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: "Накормите нас. ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали". И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот. кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О. никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше поработите нас, но накормите нас". Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать - так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем, в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв "хлебы", ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе - это: "пред кем преклониться?". Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: "Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!" И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, - знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя - о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда - ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, - и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободой любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона - свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, - но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, - эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: "Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего", но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это - они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: "Сойди со креста, и уверуем, что это ты". Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, - и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастие - вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, - и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: "Тайна!" Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастия. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали, наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг
друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: "Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих". Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то. что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей - вес судя по их послушанию, - и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести - всё. всё понесут они нам. и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостию. потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее "гадкое" тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: "Суди нас, если можешь и смеешь". Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой "восполнить число". Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi". (Я сказал, лат.)
Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.
Алеша, все слушавший его молча, под конец же в чрезвычайном волнении много раз пытавшийся перебить речь брата, но, видимо, себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.
- Но... это нелепость! - вскричал он краснея. - Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда - это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастия людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором - римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...
- Да стой, стой, - смеялся Иван, - как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно, фантазия. Но позволь, однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ. Уж не отец ли Паисий так тебя учит?
- Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то, - спохватился вдруг Алеша.
- Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: "совсем не то". Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ-хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул... к умным людям. Неужели этого не могло случиться?
- К кому примкнул, к каким умным людям? - почти в азарте воскликнул Алеша. - Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет!
- Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, "недоделанные пробные существа, созданные в насмешку". И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, "жаждущей власти для одних только грязных благ", то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по- своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь... Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.
- Ты, может быть, сам масон! - вырвалось вдруг у Алеши. - Ты не веришь в бога, - прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось, к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. - Чем же кончается твоя поэма? - спросил он вдруг, смотря в землю, - или уж она кончена?
- Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: "Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!" И выпускает его на "темные стогна града". Пленник уходит...
- А старик?
- Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.