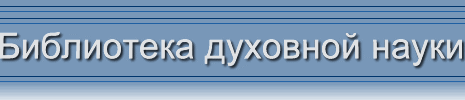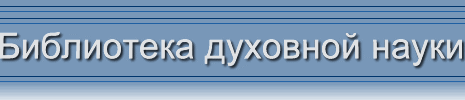Роман-хроника
Москва: Laterna Magica, 1997. 487 с.
Части:
первая (до 1917 года и в 1970-е).
вторая (детство в Тамбове и учёба в Москве, 1960-е и начало 1970-х).
третья и четвертая (работа в редакциях)
пятая (до смерти Брежнева)
шестая (смерть Меня, эмиграция, путч 1991)
седьмая (некролог Меню и разное).
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
(Л.И. Василенко)
Часть первая
В БЕЗДНЕ ВРЕМЕН
Часть вторая
НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ
Часть третья
СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ
Часть четвертая
ВОЛЧИЙ ХЛЕБ
Часть пятая
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Часть шестая
ЗАБЫТЬ РОССИЮ
Часть седьмая
СОКРОВИЩЕ СМИРЕННЫХ
Часть восьмая
ЛЕС И САД
Послесловие
(Мира Плющ)
Рецензии
Мира Плющ
ОБ ОДНОЙ КНИГЕ
(попытка рецензии)
Новая книга
Газета "Коммерсантъ" № 54 (1457) от 28.03.1998
Опавшие листья Владимира Ерохина
НИКОЛАЙ Ъ-СМИРНОВ
Приходские вести № 6. Январь-февраль 1998
Александр Зорин
АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ
Письмо Татьяны Тароховской
Предисловие
Лет 15-20 назад Владимир Ерохин жил в Лианозове на севере Москвы - по соседству со мной. Район был лесной и деревенский на вид. Немало художников и литераторов снимали там себе жилье.
Случались летом, если не было дождя, в каком-нибудь дворе двух- или трёхчасовые выставки подсоветской живописи, читались стихи, бегали дети, гости пели, и всегда звучал саксофон Володи, а местное население с интересом заглядывало через забор, но милицию никто не звал. Впрочем, праздники были редки. Чаще саксофон молчал, а Володя писал свой роман - долго и упорно - о тех днях, ушедших навсегда.
Что же он изобразил? Это наш мир после нашей катастрофы. С волками или шакалами на руинах. С наукой, искусством, религией, с жаждой обрести Дом, когда кругом развал и хлам. Вся книга - о том, что делали на развалинах автор и те, кто был с ним, что они искали и находили в 70-е - 80-е годы. "А я стою, как лошадь в магазине", - пели иногда в те дни. Но не эта песня определяет дух книги Ерохина, а нечто другое, напоминающее трёх мужиков из "Зоны" в "Сталкере" у Тарковского. Эти трое решали главные жизненные вопросы среди груд мусора, среди духовных и социальных развалин. Кое-где в России руины эти вроде бы даже и были приведены в какой-то порядок, убогий и противный, где-то ещё не всё сгнило, не всё рухнуло... Но речь идёт не о проблемах, которых полно и которые не решаются, а о жизни среди проблем. Проблемами занимались социологи - автор их хорошо знает и живо о них пишет. Что-то они придумали, поняли, предложили. Но не они светят миру. Не от них приходит радость, поэзия и музыка жизни.
Августин когда-то говорил: если вас спросят, зачем вы стали христианами, отвечайте просто - чтобы стать счастливыми, обрести полноту жизни. Августин стал христианином от великой любви к Богу и ближнему и от готовности всю жизнь отдать на служение. Но у нас в Москве православными часто хотят стать из-за отвращения к жизни, отчуждения от людей, озабоченности собой. Где-то здесь таится вражда к себе и к Богу. Но кто приходит в Церковь именно по этой причине, охотно сохраняет её в себе нетронутой, бережёт, не позволяет Богу вынуть из души эту занозу. И отвращение к жизни легко переходит в неприязнь и ненависть если не к самому Православию, то к каким-то кругам в Церкви, или к тем, кто ближе, - к друзьям, к жене, к детям. Кончается по-разному. У одних депрессией, у других бурной общественной активностью, с мрачной агрессией к "демократам", "жидам", обновленцам", или же, на другом социальном полюсе, - к "монархистам", "патриотам"... А у иных все кончается просто пьянством, разводами и прочим. Безрадостное, бездуховное, никчемное благочестие. Узнаются такие персонажи в Володиной книге, но о них он говорят бегло - это банкроты, даже если они вовсю шумят и действуют, находя много сторонников. Жизнь меняют другие - те, кто открыл душу свету свыше.
"Свет во тьме светит". Погасить Свет никому не под силу. Жизнь продолжается и итоговая черта ей не подводится - нам ли ее подводить? Но есть где-то безошибочное, я думаю, Володино чувство: "А здорово мы оторвались!" Внутренне мы уже свободны: нас не съели, хотя погибли многие, куда более достойные, чем мы, а нам дано жить и действовать дальше. Правда, в полумраке, без торжествующей победной песни. Жизнь - это путь, и если нас позвали, надо идти, понимая, что есть риск не дойти до цели. "Вдоль дороги лес густой, с бабами-ягами", - вспоминается другой Владимир. Пусть и не дают забыть о "плахе с топорами" в конце дороги той, но главное впереди - Свет жизни. "Где Бог, там свобода".
Свобода - для дела, чтобы жить убедительно, с усилием, преодолевать косность жизни. Иначе - сползание вниз, движение назад, в никуда. Свобода - это риск, ответственность, мужество. За право жить кем-то заплачена очень большая цена, нельзя дремать, тосковать, кайфовать. Кто работает всерьез, тот тосковать не будет. Что же делать? - Восстанавливать разорванные нити духовной преемственности. Среди хаоса и развалин создавать очаги осмысленной жизни. Противодействовать маразму. Духовно расти. Свидетельствовать истину. Содействовать Богу в том, чтобы Он растил нас и других. Пока очаги малы, они едва ли что изменят, но если их станет больше, если они будут солидарны в главном, тогда жизнь будет преображаться.
Примеры есть. Они - в книге. Бог явил свою милость к автору, привёл в оазис смысла и труда, который создавал священник Александр Мень - свидетель веры и служитель Слова, мученик за правду Христову. Он был чуток к Богу, прекрасно понимал людей, трудился, полностью отдавая себя на служение, рисковал по-крупному и знал, что значит побеждать зло добром. Он хранил верность древней традиции русского Православия - полуразрушенного, разорённого, униженного. В Церкви тоже немало волков и шакалов, но в ней есть жизнь, труд и духовная глубина, в ней тайна и святость, мимо которой безучастно проходят столь многие. Восприятие автором Православия и России - глубоко личное, живое. Автор видел многое и сравнивать ему есть с чем. И вывод его светлый: "Россия - совесть мира. В этом смысл России".
Л.И. Василенко
Часть первая
В БЕЗДНЕ ВРЕМЕН
МЯТЕЖ
Россия - интересная страна, где, выйдя из дома, вы никогда не уверены, что вернётесь назад.
Гумилёв вернулся в Петроград, когда всё было кончено: царь Николай II отрекся от престола. Падал ватный мартовский снег, сапоги скользили по панели.
- "Новое время"! "Новое время"! - галдели огольцы.
Гумилёв купил газету, просмотрел заголовки на первой полосе (формирование революционного правительства, выступление министра Милюкова, беспорядки на фабрике товарищества "Привет"...).
Скучно.
Он сунул свёрнутый листок в карман шинели, закурил папиросу, щёлкнув английской зажигалкой, и пошёл по Невскому.
Толпа ловила переодетого жандарма.
МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И БЕССМЕРТИЕМ
- Способность запоминания присуща только человеку. Нет нужды проводить сравнения с животными - безусловно, они способны чему-то научиться, но мы с лёгкостью можем согласиться с тем, что "они каждый день живут заново". В генокоде животных содержится необходимый - для того, чтобы не погибнуть, - набор рефлексов и инстинктов; можно вырабатывать у них условные рефлексы, развивать способности к заучиванию; животные помнят своих хозяев - но однако же кукушкины птенцы всегда могут "инкогнито" быть воспитаны ничего не подозревающей птицей - это память иного качества, это уровень досознания. Разве можно сопоставить домостроительство бобров или ласточек с искусством архитекторов? Разница уровней безусловна. Во многом именно памяти человечество обязано своею культурой и цивилизацией. Каждый родившийся человек и течение жизни обретает опыт всех живших до него, и в том уже проявляется бессмертие культуры. Вся природа подвластна времени, неумолимый поток его истребляет в конце концов всё живущее. "Жизнь природы есть сделка между смертью и бессмертием, - пишет Владимир Соловьёв. - Смерть берёт себе всех живущих, все индивидуальности и уступает бессмертию только общие формы жизни: это единичное растение или животное обречено неизбежно погибнуть - после нескольких мгновений; но эта форма растительности или животности, этот вид или род организмов остаётся". Нет бессмертия личностного, и неумирание видов и форм не изменяет этого печального положении.
- Человек с самого начала внутренне противился всеистребляющему потоку времени. Древний охотник нарисовал в пещере мамонта. И это уже в какой-то степени противление законам природы, в этом рисунке какой-то давний день вырывается из мертвящего потока времени, чтобы стать принадлежностью дня грядущего. Борьба со смертью, одоление её силами творчества и разума - вот в чём содержание культуры, вот чем отмечено явление в мир человека, назначение и смысл его сущности. Это определяет и содержание творчества, которое воскрешает минувшее в грядущее.
ДИАЛЕКТИКА
Встретились два человека в кавказской чайной - горский разбойник и русский социал-демократ. Разговорились.
- Я всё могу, - расхвастался разбойник. - Моя шайка нападает на богатые дома, экипажи, даже поезда. Я сказочно богат. А ты всё какие-то книжки читаешь.
- Твоя шайка сильна, спору нет, - согласился русский. - Но что вы можете? Ограбить несколько богачей. А моя шайка - она называется партией - хочет отнять все богатства у всех богачей. Вся Россия будет наша, а потом, может быть, и весь мир.
- Якши, - сказал горец, подумав. - Я хочу вступить в твою шайку.
ЭХО ВЕКА
...Кружились пары на ледяных катках. Военный духовой оркестр играл вальс "Амурские волны", пар валил из труб. Дворники в белых фартуках расчищали снег. Поскрипывали валенки прохожих, проносились сани, припорашивая снегом тротуар.
Полицмейстер отвозил на извозчике пьяного в участок.
От Страстного монастыря тянулись вереницы нищих; обсуждали чудесное явление образа Божьей Матери на морозном окне храма Христа Спасителя.
Василий Васильевич Розанов спешил, кутаясь в меховой ворот, на заседание теософического общества, мечтая о том времени, когда все люди будут ходить обнаженными.
В моде были теософия, гипнотизм, магнетизм, спиритические опыты.
Дамы носили длинные газовые шарфы, подчеркнуто простые прически и узкие юбки.
В моду входил стиль "модерн", который привнёс характерные спиралевые линии, восточную символику, утончённую простоту и ассимметричность в архитектуру, одежду, "уличную графику" (афиши, рекламу, вывески), типографские шрифты.
Закручивались в спираль граммофонные раковины; ракушечные рамки обрамляли семейные портреты.
Дамы стали ездить на велосипедах и курить длинные тонкие папиросы.
Начиналась эпоха танго.
Талантливый молодой пианист Борис Пастернак встречал портретом-импровизацией каждого входящего в дом, где проводились поэтические вечера.
Дядя царя Константин Романов печатал в периодике стихи под скромными инициалами "К.Р.".
Ещё не знакомый с футуризмом Василий Каменский прилаживал велосипедное колесо к аэроплану собственной конструкции. Гремела слава Серёжи Уточкина, знаменитого одесского велосипедиста и авиатора. Это было время первых полётов Губерта Латама. Семь дней жили в палатке среди чистого поля лётчик, механик и кинооператор. На восьмой день аэроплан взлетел и, пролетев сорок метров в воздухе, благополучно приземлился. Кинокадры вызвали сенсацию. А потом мир был потрясён событием: Блерио перелетел Ла-Манш!
Век бредил движением. Возникла идея кинетической геометрии. Движение, время - четвёртое измерение мира, и в такой же степени косно рассматривать предметы неподвижными, как косно плоское представление о них, имеющих трёхмерность. Об этом писал Анри Бергсон в книге "Длительность и одновременность", вышедшей в 1911 году. (Идея была не нова: по существу это возврат к Гераклиту.)
Иногда над Летним садом повисал аэростат, и горожане уже знали, что это опять будут прыгать с парашютами отчаянные братья Шервинские.
По Волге курсировала баржа с кинематографом "Наяда".
- "Ваши пальцы пахнут ладаном"! "Последний поцелуй смерти" - только один сеанс! - выкрикивали зазывалы.
Отставной казачий офицер Ханжонков просматривал только что смонтированную хронику "Смотр войскам". Старевич, склонясь в кружке света, раскрашивал кадрики мультипликационного фильма. Ходили по Москве разговоры вокруг актёра Сашина-Фёдорова, который оставил театральную карьеру и завёл себе электрический театр.
В 1908 году родительский комитет гимназий города Казани подал прошение вице-губернатору об издании приказа, который запрещал бы гимназистам посещать толкучий рынок, кинематограф и другие увеселительные заведения.
Знаменитая Сара Бернар долгое время не решалась сниматься в кинематографе, чтобы не повредить своей репутации.
Кино было еще в новинку. По всему миру наезжали на публику люмьеровские паровозы и капризный малыш отворачивался от предлагаемой каши. Поражал не столько малыш и суетящиеся вокруг него взрослые, сколько шелестящие, движимые ветром листья, волнение воды. Снимали хронику и драмы, снимали с воздушного шара, из лифта, с Эйфелевой башни.
Техническая эстетика с одинаковой лёгкостью отвергалась и так же легко входила в сознание. Французская девушка Тереза из Лизьё (Малая Тереза) просила Бога: "Господи, будь моим Лифтом!..".
Эйфелева башня шокировала всех своей безвкусицей. Мопассан говорил даже, что теперь можно спокойно прогуливаться только у подножия башни, ибо это единственное место, откуда её не видно.
Кинематограф сразу же объявили чудом. Таинственный шатёр привлекал внимание и успешно конкурировал с бородатой женщиной, сросшимися младенцами и заспиртованным чудищем из озера Лох-Неш. Операторы крутили вхолостую ручку аппарата у входа в иллюзион - зазывали зрителей (и всякий раз находились простодушные актёры из уличных зевак, которые приходили потом вечером, надеясь увидеть себя на экране)...
"Всё пространство, все промежутки между материальными частицами этого мира, - писал в 1877 году петербургский журнал "Свет", - наполнены неуловимой, как кажется, не подлежащей материальному тяготению субстанцией, которую наука называет эфиром. Это таинственный посредник всего существующего. Без волнообразных колебаний этой среды, к которым приспособился и которые осязает наш глаз, мы оставались бы в вечных потьмах".
Это не было открытием эфира. Древние греки полагали, что, кроме четырех физических стихий - земли, воды, воздуха и огня, есть еще одна - эфир, который находится где-то между воздухом и огнём, всеохватывающая, невещественная сфера, область обитания богов, духоносный, божественный эфир; боги на Олимпе, предполагалось, дышали чистым эфиром.
Уже в ранней истории были дерзновения проникнуть в небо - вспомним проекты летательных машин Леонардо, прыжки с колоколен безымянных русских изобретателей. Но в основном люди осваивали землю и воду. Великие географические открытия XII-XVI веков расширили сферу человеческого обитания, открыли новые горизонты; земля одновременно "одомашнивалась" и удивляла неожиданно новыми знаниями о ней. Наносились на карту имена первооткрывателей - Колумба, Магеллана; великие русские путешественники Беллинсгаузен, Врангель, Крузенштерн, Литке снаряжали экспедиции. Поговаривали о воздушном океане.
"Штурм неба" - терминология французской революции. Имелось в виду низвержение богов. Немногим позднее началось техническое освоение пятого океана. В воздухе повисали над изумлёнными толпами неуклюжие дирижабли, ветром носило воздушные шары, наполненные горячим воздухом; отважные испытатели прыгали с парашютами. Появились первые аэропланы.
Одновременно учёные вспомнили об эфире (многие века это понятие можно было встретить только в поэтических сочинениях; учёные же люди считали его такою же нелепицей, как идею теплорода или корпускул). Мир, который в век Просвещения представлялся вполне освоенным и понятным, вновь обретал таинственность.
Математик Лейбниц занимался мнимыми числами, которые, как он говорил, "есть поразительный полёт духа Божиего, которые обитают где-то между бытием и небытием". В 1857 году увидели свет два тома исчисления мнимых величин сэра Вильяма Гамильтона. Через десять лет кембриджский профессор физики Максвелл открыл теорию электричества и магнетизма. Сфера таинственного, трансфизического обретала видимое бытие в исчислениях и формулах.
3 марта 1901 года с броненосца "Генерал-адмирал Апраксин", находящегося у острова Готланд, была послана депеша на остров Асле, за тридцать миль, по аппарату конструкции преподавателя кронштадтских минных классов Александра Попова. Это был первый опыт работы беспроволочного телеграфа. Эфир, становясь проводником сигналов, обретал реальность. Он постепенно наполнялся звуками. Радиолюбители устанавливали на крышах домов проволочные антенны, целыми днями ловили сигналы из далёких стран. Летели по почте радиооткрытки, испещрённые непонятными непосвященным значками. Протягивались невидимые, почти невероятные нити общения...
В читальном зале библиотеки Румянцевского музея за палисандровым столиком тихо переговаривались двое - библиограф Николай Фёдорович Фёдоров и учитель геометрии из Калуги Константин Эдуардович Циолковский:
- Победа над смертью, общение живых и мёртвых, воскрешение всех, когда-либо живших на земле, - вот смысл и общее дело человечества. Ведь всё, чем мы живем, создано трудом наших предшественников, они жизнь свою положили на создание ценностей, которые мы принимаем готовыми. Мы все - неоплатные должники всех живших до нас. Чем можем мы оплатить этот долг? Только жизнью. Нет, не жизнью нас самих, отдаваемой рано или поздно смерти (для этого не требуется никаких усилий), - но их жизнью, воскрешением умерших. Это возможно: по портретам, воспоминаниям, дневникам, письмам воссоздаются вновь личности ушедших. Наше общее дело - научиться воскрешать телесно.
- А где же расселить всех обретших новую жизнь?
- По всей Вселенной.
- Я не понимаю, каким образом вы предполагаете самое расселение людей по Вселенной? Как транспортировать их на другие планеты, когда мы привязаны к Земле непреложным законом тяготения?
- Земля - колыбель человечества. Но оно не может навсегда остаться в колыбели. Оно оторвётся от Земли...
- Каким способом?
- Вы видели когда-нибудь китайские пороховые ракеты, которые запускают по праздникам в Александровском саду? Подобные им небесные корабли смогут стать транспортом для людей. А форму их уже предугадали храмы, которые есть порыв к небесам. И настанет время, когда храмы оторвутся от Земли и понесут людей в другие галактики.
В православных храмах предавали анафеме графа Льва Толстого.
Мировым скандалом шло дело Дрейфуса. В защиту поднялся Эмиль Золя. На сторону осуждённого встали Чехов, Владимир Соловьёв и Короленко.
Этим жил мир. Взрывались бомбы боевиков под царскими колясками.
...Шла русско-японская война. Какой-то смельчак, прервав представление в Большом театре, встал с места и, указывая на прима-балерину, громко сказал:
- Господа! На шее этой дамы - половина русского флота, в ушах у неё - пять дредноутов.
Все знали, что прима была любовницей великого князя - министра флота. Ещё жива была в памяти Цусима, гибель адмирала Макарова, и публика не дала жандармам схватить патриота.
Шаляпин в ресторане "Славянский базар", стоя на столе, пел революционную песню "Дубинушка".
Савва Морозов шёл пешком в банк - снимать с лицевого счета десять тысяч рублей за освобождение Леонида Андреева, хозяина конспиративной квартиры РСДРП.
Ленин возвращался с заседания ЦК, чувствуя спиной угрюмое око филера.
Среди ночи поступали телеграммы к Иоанну Кронштадтскому с просьбой о молитве. Он вставал и прилежно молился - о болящих, скорбящих, плененных, пагубными ересьми ослепленных...
В 1911 году русский ученый Розинг впервые осуществил передачу телеизображения (используя явление катодной телескопии, открытое им в 1907 году). Эфир, дотоле невидимый, явил себя зримо. Только что прошла мировая сенсация - петля Нестерова. Через несколько дней лихой пилот Борзунов, пролетая мимо царских трибун на Ходынке, встал и отдал императору честь, за что был сразу пожалован из прапорщиков в капитаны.
Градоначальник Ростова издал приказ запретить движение автомобилей по городским улицам, пока лошади не привыкнут к ним.
Успешно переносил сорок человек на коромысле Иван Иванович Поддубный. Шли чемпионаты по борьбе.
- Борец в черной маске! Таинственная фигура! - зычно выкликал, выходя на опилочный манеж, знаменитый арбитр Дядя Ваня (И.В. Лебедев).
"Три сестры" Чехова не имели успеха у публики...
С холмов сползали конные трамваи, позванивая на поворотах. На Трубной торговали грибами, цветами и ягодами всех сортов; ветер носил по площади подсолнечную шелуху. Важно придерживая на бедре "селёдку", прохаживался городовой. Время от времени из-за угла выезжал лихой пожарный обоз, в блестящей медной каске с закрученным улиткой верхом скакал усатый брандмайор. В свете факелов горели каски, кони потряхивали гривами...
Владимир Гиляровский бесстрашно шёл в шулерский притон писать вечерний репортаж.
Есенин уже бродил в цилиндре и с тростью по петербургским улицам.
Ходили по аристократическим домам Городецкий с Клюевым, играя на гармошке и напевая срамные частушки собственного сочинения.
Гулко звенели колодцы дворов от звучных голосов точильщиков, лудильщиков, старьёвщиков, водоносов, молочников; шарманки напевали свои печальные мелодии: "Трансвааль, Трансвааль, страна моя. Ты вся горишь а огне..."
Ещё расписывал пасхальные яйца художник Маяковский.
Хлебников, который предсказал в своей книжке-таблице (1912 г.) падение Русского государства в 1917 году, жил на иждивении у булочника Филиппова, на Воздвиженке. Жаловался друзьям, что его заставляют писать какой-то роман, в то время как ему хочется заняться вычислениями (законами времени).
А мир готовился к войне. Она зрела, порох был сухим и атмосфера раскалена. Старый мир ждал искры, чтобы вспыхнуть, вздрогнуть и расколоться пополам. Пороховую бочку мира взорвал один лишь выстрел, прогремевший в Сербии.
На экраны вышел фильм "Убийство герцога Гиза".
В 1914 году Бурлюк, Каменский, Кручёных, Хлебников и Маяковский подписались под манифестом, в котором провозглашалось, в частности, что "революция содержания - социализм-анархизм - немыслима без революции формы - футуризма...".
Год спустя Дмитрий Петровский получил телеграмму следующего содержания: "Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети; адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову"...
Вечно нетрезвый Гришка Распутин в красных сапогах плясал на царском паркете.
Маяковский написал стихотворение "Надоело".
Утопая в табачном дыму, интеллигенты спорили до хрипоты. Ждали бури.
В домах пахло сладким тестом, пекли пироги и наряжали ёлки. Жарко горели начищенные медные заслонки на кафельных печах. Дети возились с мишурой, золотили орехи. Висели портреты императора, украшенные гирляндами трёхцветных электрических лампочек; газовые фонари струили свой загадочный свет.
Среди семи чудес света читатели петербургского журнала "XX век" назвали: беспроволочный телеграф, телефон, аэроплан, радий, антитоксины, спектральный анализ, рентгеновские лучи.
Россия ждала Рождества.
ЗА ГРАНЬЮ НЕБЕС
Мне приснился Пабло Пикассо. Он был подмастерьем у Господа Бога. Он лепил из синей глины портреты ангелов и людей. А Господь по этим отпечаткам творил чистые сущности. И это были лики ликов и идеи идей.
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ
Баба в вагоне ругалась матом, заставляя слушателей строить самые причудливые предположения о женской физиологии. В окно глядел печальный северный рассвет.
На нас лежит печать несбывшести. Трагизм нашего положения в том, что мы - субъекты той культуры, которой больше нет. Наши современники её не наследуют, как не наследуют нынешние римляне и египтяне культуру древнего Рима и Египта. Пришла новая, варварская культура. В акрополе бродят кони, и он никогда не будет восстановлен.
Гусарский прапорщик вошёл в подъезд, поднялся по чугунной лестнице на четвёртый этаж, отпер дверь с зеркальной визитной карточкой - затейливый курсив, кокетливо загнутый никелированный уголок - и не раздеваясь прошёл в комнаты, вдыхая запах нежилого - пыльный, холодный дух.
Разница культур - это, в конце концов, разница в запахах.
Есть запах дикости, запах варварства и запах цивилизации.
Есть взрослые народы и народы-дети.
Молодые культуры пахнут зверем и травами.
Белый охотник не может уподобиться индейцам или жителям африканских саванн. И тем более - диким зверям.
Машинально подобрал с запылённого паркета забытую некогда брошюру: "Служебная памятка молодым офицерам, выпускаемым из Александровского военного училища"; присев на край турецкого дивана, раскрыл на случайной странице:
"...Свой окоп и позицию защищать, как пост, как святыню, доверенную воину родиной, стремясь при этом нанести врагу как можно больше потерь. Постоянно внушать бойцам, что оставление ими рядов без приказания или отход назад целой частью является предательством по отношению остальных".
Культура обретает сладость и полноту, как и плод, достигнув зрелости и старости. Ни одна из культур не бесконечна, она старится и должна умереть. Её седина - золото и мед.
"...Умело и твёрдо командовать своею частью и постоянно помнить о разведке, охранении и связи".
Декаданс, свойственный старым культурам, - предчувствие скорой гибели и нашествия варваров ("Божий бич, приветствую тебя!")
"Создать себе доблестных и умелых помощников".
Я думаю, что наша культура погибнет, от неё не останется следа. Нас захлестнёт дионисийская стихия.
"Свято исполнять приказания и служить примером добропорядочного отношения к делу, доблести и спокойствия в ту минуту, когда все теряют голову и только в вас видят поддержку".
Молодые культуры имеют особый, пряный аромат, но они лишены гармонии, сладости и полноты. Наши идеалы обращены назад, к той культуре, которая уже умерла.
"Уметь со своею частью прорывать врага и окружать его, не боясь своего окружения, и при всяких обстоятельствах помнить воинскую честь, запрещающую даже мысль о сдаче; честь дороже трусливой жизни".
Христианство внекультурно. Оно вечно юно и несет на себe отблеск алой утренней вари, в отличие от прохладного, золотого вечернего света угасающих культур.
"...Приказание начальника сдаваться в плен не исполнять, а отдавшего такое приказание - убить".
Поэт вынул из кармана, развернул, скомкал, швырнул на пол газетный лист - весть измены и мятежа, знак катастрофы. Подняв медно-бычий взор, презрительно бросил в глаза-пятаки царёва портрета окопный, фронтовой ярлык:
- Штафирка!
Он откинулся на спинку дивана и заснул, склонивши голову на грудь.
Сон офицера был коротким и глубоким.
Ему снился радужный рай: золотой океан, жирафы Африки, лохматые пальмы и львы. На спины негров падал снег.
ОСВОЕНИЕ МИРА
- Освоение мира человеком началось, возможно, с называния окружающих его предметов. Психологи считают, что не названное не существует в сознании, ибо оно не отделено от незнакомого, незнаемого нечто; когда же явлению дается имя, слово, оно уже определяется (получает границы, пределы), выделяется из бесформенного ничто, обретает форму. Например, "дерево" - это не весь лес целиком, не куст, не зверь и так далее. "Дуб" - не осина, не береза - то есть дифференциация понятий всё более и более четко оформляет, определяет окружающее. Названное принадлежит уже неотъемлемо сознанию, и над ним не властна безымянная бесформенность, равнозначная небытию.
- Но этого мало! Ибо человек смертен, и какой смысл в этой оформляющей мир деятельности сознания, когда забвение поглотит всё, и сыновьям заново придётся постигать то, что уже открыто умершими?
- В этом видится дурная бесконечность, пугающая бессмысленность, обращающая в ничто личное существование каждого...
- В письменной культуре (я употребляю это понятие в расширенном смысле - включая изображения) было спасение. Опыт и знание передавались изустно, но одновременно делались уже изображения, которые оставались после своего создателя. Человечество было обречено на письменность - иначе невозможно было сохранить культуру.
- Строго говоря, не было насущной необходимости рисовать на стенах пещер.
- Она кроется в глубинном, интуитивно постигаемом, неодолимом стремлении вывести себя (и даже не только себя лично, но и сознание всего рода) из мертвящего потока времени, в противлении смертоносным законам природы. Письменность началась с того, что человек провёл палочкой или углём черту на плоскости - оставил след, память (хотя бы об этом своем действии). В китайской культуре существует понятие о памяти, как тени, и белом забвении. Белое означает одновременно смерть, забвение и пустоту. (Пустота, понимаемая как прозрачность, в которой нет ничего. Прозрачность - зримое выражение пустоты). Черное же есть символ графической определенности предмета и его способности быть запечатленным в памяти.
- Сократ презирал письменность.
- Однако же мы знаем о нем благодаря его верному ученику Платону, не только не презиравшему её, но и преуспевшему в этом деле.
МАРШ
"В борьбе за народное дело..." - взрыднули трубы за окном.
Привалясь спиной к уютному кафелю печи, Катя шнуровала высокие ботинки-"коты".
Она оправила на выпушке пальто алый, вошедший в нынешнюю моду бант, глянулась в зеркало, сумеречно мерцавшее в прихожей, сделала себе воздушный поцелуй и скользнула в подъезд, а там, отчечётив ступеньки этажей, - Литейным на Невский.
Оркестр ушел на полверсты вперед. Хоронили жертвы революции. Их было числом около сорока.
Слезы, светлые, радужные, как отмененные теперь императорские флаги, навернулись на Катины глаза.
- Николай Степанович! - закричала она вдруг, замахав рукою в замшевой перчатке.
По тротуару, в расстегнутой шинели, глядя прямо перед собой, не замечая ее, шел Гумилёв.
ОБВАЛ
- Зло совершило прорыв в мир.
- Оно и раньше прорывалось - войнами, революциями, разбоем, насилием властей...
- Но тут оно прямо-таки обвалилось в мир, рухнуло на него. Никогда ещё мир не знал столь истребительной войны, как первая империалистическая.
- Я думаю, что во всём виноват тот французский инженер, который изобрёл колючую проволоку.
- Чудовищная дальнобойность артиллерии и убойная сила нарезного огнестрельного оружия сделала бессмысленными латы и кольчуги. Обороняющиеся войска стали закапываться в землю. Оставалось преимущество атакующей кавалерии. Против неё был придуман пулемёт.
- И - та самая колючая проволока, которая первоначально, надо полагать, создавалась для сельскохозяйственных нужд - оцеплять загоны для скота.
- Пулемёт сделал невозможной и атаку пешей колонной, вышибая за рядом ряд солдат. Атакующие поползли. Война сделалась позиционной. Окопавшиеся, загородившиеся колючей проволокой войска стали выкуривать газами, вышибать разрывными снарядами и взрывами авиабомб, расстреливать с аэропланов. На колючку попёрли танки. Тогда возникли минные поля - как против вражеских кораблей. Армия зарылась в землю,
- Флот начал прятаться под воду - возникли субмарины. Бою флотов - рыцарскому турниру - противопоставлены были торпеды и взрывы глубинных бомб. Неприятеля стало нужно уже не сразить, не покорить, а - извести, истребить. Встарь уходили абордажи, штыковые атаки, фехтовальные поединки конников.
-. Когда противник далеко - лица не разглядеть, он перестает быть личностью, судьбой. Он, собственно, перестает тебя интересовать.
- И не стало милосердия, ибо злоба закипала - когда рядом, после разрыва снаряда - груда кишащих кишок, разбрызганные по земле мозги - а это был твой товарищ. А вон там, на дереве, висит нога. Твоя?.. Сердца солдат переполняла злоба.
- Зло множилось на всех фронтах. С его запасом они уходили домой - готовые на всё.
- Враг словно ждал: кто первым рухнет? Кого захлестнет стихия тьмы? И рухнула Россия - круговой порукой зла, увлекая за собой весь мир.
ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ
- Свобода, свобода, слава Тебе, Господи! - купец в распахнутой бобровой шубе, с алым бантом на шапке христосовался с подвыпившим мастеровым.
(Мы чувствуем себя как-то очень торжественно - как перед смертью, как моряки на тонущем военном корабле, надевающие лучшие одежды. Какая-то светлая, тихо-радостная обречённость.)
И это была Россия - пьяная, ошалевшая от счастья, наивная, резвая, святая, обреченная на смерть и предсмертные муки, простодушно щедрая на ласку и гнев, сгубившая себя на взлете, как уточкинский аэроплан, - правду о которой в тот смутно солнечный, до обидного, до ангинной боли в горле звенящий, ликующий день знал один Гумилёв.
УТРО ВОЖДЯ
Русскую революцию Ленин проспал.
Слышали бы стены Смольного, Зимнего или дворца царской пассии Кшесинской, как матерился он в то мартовское утро в Цюрихе, раскрыв и перешарив ворох утренних газет, как нервно пил пиво в дремотном кафе, как в бессильной ярости бродил между урн и деревьев парка, как стучал кулаком по скамейке, твердя: "Суки... Опередили!" Как кинулся собирать чемодан, как снимал партийную кассу. Надюше нагрубил.
И неотвязно, назойливо вылезал из задворков памяти тот нелепый арест в Галиции в самом начале войны (шла охота на русских подданных) полевой жандармерией австрийцев.
Недельку пришлось провести в неуютной, пахнущей клозетом и плесенью кутузке, пока не предстал, хлопотами местных социалистов, перед шефом жандармов.
Шеф был усат, похмелен и по-швабски груб.
На великолепном берлинском диалекте, усвоенном от матушки, Ленин потребовал объяснений.
Шеф стукнул костлявым прусским кулаком по казённому столу и предъявил обвинение в шпионаже в пользу русского правительства, выслушав которое, Ильич заливисто расхохотался.
Ему был подан стакан воды.
Ульянов выпил воду залпом, после чего сделал следующее заявление:
- Меня обвиняют в шпионаже в пользу России. Нельзя придумать ничего смехотворнее подобного обвинения. Кто, как не мы, большевики, разлагаем русскую армию на фронтах, призывая солдат не исполнять приказы командиров, бросать окопы и уходить домой? Кто, как не мы, большевики, подрываем военную промышленность России, организуя забастовки на заводах, беспорядки и саботаж? Кто, как не мы, большевики, средствами прессы, устной агитацией, повседневной работой в массах влияем на общественное мнение России, склоняя его к желательности и даже неизбежности австро-германской победы? Кто, как не мы, большевики, препятствуем снабжению русской армии и населения городов продовольствием, побуждая крестьян уничтожать помещичьи экономии - основной источник сельской товарной продукции? Результаты не замедлят себя показать: армия деморализована, фронт расползается по швам, оружейные заводы простаивают, в городах возникают голодные бунты, а русская общественность убеждена в необходимости и даже полезности военного поражения России. И меня обвиняют в антиавстрийской, антигерманской деятельности! Не мешайте нам работать, и я гарантирую падение нынешнего, враждебного Габсбургам русского режима через пару лет. Дайте нам взять власть - и Россия, поправ все союзнические обязательства, пойдёт на самые унизительные, самые постыдные уступки ради сепаратного мира с державами Тройственного союза.
Шеф, ошеломлённый услышанным, снёсся с высоким начальством в Вене и Берлине.
Наутро, вернув Ульянову галстук, подтяжки и ботиночные шнурки, его вывезли в Швейцарию...
И вот настает тот последний, тот решающий миг. Промедление смерти подобно. Только бы добраться до России! Он, коего ждали, нежданным придёт. Каждому даст по делам его, рабов на престол возведёт.
Вместе с женой и группой верных товарищей Ульянов-Ленин усаживается в опломбированный вагон с немецкой надписью: "Achtung! Seuche!" ("Внимание! Чума!"), прицепленный к почтово-багажному поезду, следующему кружным путём, минуя опутанные колючей проволокой линии фронтов, через Германию и Австрию - в мятежный Петроград.
ЗА СТЕНОЙ У БАБЫ МАНИ
Сын бабы Мани сильно матерился за картонной стеной всю ночь, а утром рассказал, что вернулся с похорон: друг его пришёл домой пьяный, упал лицом в пуховую подушку, а подняться уже не смог - и задохнулся так.
Этот случай произвёл почему-то особенно сильное впечатление на сына бабы Мани, уже пожилого мужика; он почернел и стал пить ещё больше прежнего.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗЕМНОГО ШАРА
Хлебникова особенно раздражало название нового правительства - "временное". Видя в этом узурпацию и плагиат, он одну за другой посылал уничтожительно-язвительные телеграммы Керенскому, неизменно называя его "Александрой Фёдоровной".
Хлебников мечтал о государстве Времени, перед которым содрогнутся правители пространственных государств.
Вдвоём с Дмитрием Петровским они отправились к отцу Павлу Флоренскому - с тем, чтобы предложить ему стать одним из будущих председателей земного шара.
Вошли, как школьники в келью схимника. Вышли через час - задумчивые и присмиревшие.
- Там, за Ураном - граница Неба, - рассказывал им отец Павел. - Это область сверхсветовых скоростей, где протяжённость тел равна нулю, масса их бесконечна и время - тоже бесконечно. Не есть ли это мир чистых форм Аристотеля, платоновских идей, бестелесных вечных сущностей - иерархии ангельских чинов? Это воинство небесное, созерцаемое с земли как звёзды, но земным свойствам чуждое. Время там течёт в обратном направлении - от следствий к причинам, причинность заменяется телеологией, и за границею предельных скоростей простирается царство целей.
Поговорить о председательстве так и не пришлось.
А Маяковский, уже давший свое согласие, решил пока что выставиться на выборах президента России.
- От какой партии? - спросил приятель.
Он ответил:
- От партии футуристов.
И ходил задумчивый весь день.
В БЕЗДНЕ ВРЕМЕН
Над Невским кружил аэроплан, сбрасывая прокламации. В воздухе чувствовалось какое-то беспокойство. Кончался сумрачный октябрь. Выстроились очереди к хлебным лавкам. Догорали в сизой дымке костры.
ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ
Россия - странная страна, где русский человек испытывает тоску по родине.
Мы искали её всюду и не находили. Мы вглядывались в темноту пустынных улиц, в пустоту переулков, где от домов на лунный снег ложились сиреневые тени. Век моргал глазами фонарей и не давал ответа.
Пуршил между домами крупный и частый снег. В темноте под фонарём мы увидели торчащий из стены трёхцветный флаг и кинулись к посольству неведомой страны.
Оказалось - это Верхняя Вольта. Вместо синего был черный.
А потом страны такой не стало, а на её месте появилось какое-то Буркина Фасо - народная джамахерия. И флаг стал бильярдно-зелёным, с коньячной звездой, и вождь у них - капитан милиции...
А я уж знаю: раз джамахерия - значит, головы рубят.
ЗАХВАТ
Ленин ехал в автомобиле.
Загодя шофёр приметил сваленные поперек дороги бревна и затормозил.
Из сугроба выскочил бродяга и, нацелив наган, потребовал не двигаться с места. Его напарник, такой же оборванец, ловко вскочил в машину и довольно бесцеремонно обшарил поднявших руки пассажиров. Из бокового кармана ленинского пиджака он выудил бумажник, а из брючного - револьвер, вооружась которым, потребовал, в свою очередь, покинуть машину. Ленин, Крупская и водитель подчинились. Грабители, усевшись в автомобиль, развернулись и скрылись в метельной тьме.
На другой день Ленин вновь выступал на заседании Совнаркома и, в качестве аргумента в пользу подписания немедленного - пусть даже и на грабительских условиях, пусть унизительного - мира с Германией, привел пример со вчерашним ограблением, которое могло бы стоить ему и жизни, не прояви он выдержки и хладнокровия. (Не обмолвясь, впрочем, ни единым словом о том, что поучительное происшествие случилось с ним самим.)
"ЦАРЬ НИКОЛАШКА"
"Царь Николашка долго правил на Руси", - запел Тенорок.
Вагон качало и подбрасывало, поезд мчался в сторону Коломны.
"Хоть собой он был не очень-то красив..."
Не шайка разбойников, а концертная бригада ехала в сей Богом забытый райский уголок - на станцию Фруктовая (Тенорок для смеха называл ее "Овощной", а соседи-аборигены всякий раз добросовестно поправляли), где нам предстояла халтура.
Саксофон в студенческие годы выручал меня не раз. И - приятели с экономического факультета, отлично знавшие культурные запросы жителей дальнего Подмосковья.
"При нём водились караси, при нём плодились пороси..."
Экономисты были: пианист-виртуоз Рустам Азизов, артисты смешанного жанра - от фокусов до парного конферанса - Сыров, Брильянтов, Кошкин, поющий негр Ачуки Чуди, басист Валерий Самоваров по кличке Тенорок и стихийный барабанщик Васька Рудь.
(Тенорком Самоварова звали, во-первых, за сорванный голос, а, во-вторых, за то, что он, при поступлении в университет, наврал, будто бы играет на саксе-теноре, что было чистейшей липой, но перетянуло чашу конкурсных весов.)
"И было много чего выпить-закусить..."
Это была явная и наглая контрреволюционная агитация, впервые в жизни услышанная мной.
- ...А ты не еврей? - спросил хозяин, накалывая на вилку солёный скользкий гриб.
- Нет, - ответил Рустам. - Я дагестанец.
Хозяин одобрительно кивнул.
Из тёмного угла, чуть озаряемый лампадой, смотрел на нас суровый русский Бог.
За окнами стояла тьма, тягучая, как студень.
Потом пришел хозяйский сын по кличке Никсон - главарь всех местных хулиганов.
Рустаму постелили на полу, на половиках, а меня уложили вместе с Никсоном на пуховую кровать.
- Ты, если что, зови сразу Никсона, - сказал мне Никсон на будущее. - Меня вся Коломна знает.
Мы проснулись с пеньем петухов.
ЛУНА
Мне приснилось, что Луна - древняя планета, более древняя, чем Земля, и что раньше Земля была спутником Луны, а потом случилась космическая катастрофа, в результате которой Луна уменьшилась в объёме, пообтерлась или рассеялась и стала вращаться вокруг Земли, потеряв атмосферу и жизнь. А может быть, это была древняя планета Фаэтон, находившаяся между Землёй и Марсом. Часть её - может быть, поверхностная, - стала, по разрушении, метеорами, а оставшаяся, сойдя с орбиты, устремилась к Солнцу, но была притянута Землёй и стала её спутником. Отсюда загадочность Луны и магизм её света, её влияние на приливы и отливы, на жизненные процессы Земли, её безысходная печаль.
СТАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
Как-то мне попалась, вероятно, нашумевшая в двадцатые годы книга профессора Залкинда "Психопатология РКП(б)". Он провёл исследование по заданию ЦК партии, точнее - обследование старых большевиков. И обнаружил, что все они страдают тяжкими психическими расстройствами: маниакально-депрессивным психозом, паранойей, навязчивыми идеями, бредовыми галлюцинациями. Сказывалось утомление, перенапряжение подпольных и военных лет. Они не способны были к работе в мирной, обычной обстановке, не умели расслабляться, отдыхать. Им всюду чудились враги.
Не случайно Афиногенов в своей знаменитой по тем временам пьесе "Страх" утверждал, что человеком, и особенно человеческими толпами движут четыре элементарных инстинкта: гнев, голод, любовь, страх.
Эти инстинкты толп наблюдал Сергей Степанович Чахотин - ученик Ивана Павлова, сотрудник Макса Планка, шеф пропаганды Веймарской республики.
Питирим Сорокин исследовал голод в Поволжье и пришел к ещё более страшным выводам. От голода люди теряли человеческий облик. Развивалась голодная проституция, были зафиксированы случаи людоедства, кражи и пожирания чужих детей, поедания своих собственных детей - не говоря уже о такой малости, как слабоумие, апатия и потеря памяти.
ОВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
В двадцатые годы философ и провидец Валериан Муравьёв написал книгу "Овладение временем как основная задача организации труда". Он писал о времени, которое можно будет свертывать и растягивать, "прокручивать" заново, консервировать и хранить, извлекая его, если нужно, из резервуаров...
В сентябре 1919 года большевики приговорили Муравьёва к высшей мере социальной защиты, но - по прихоти всемогущего тогда Льва Троцкого - всё же оставили в живых.
(Был в Троцком какой-то сатанинский пафос, магнетически воздействовавший на самых несговорчивых людей и заставлявший их повиноваться.)
Валериан Николаевич издал "Овладение временем" на собственные средства в Москве в 1924 году.
Потом он бесследно исчез, и время так и осталось тёмной, неосвоенной стихией.
МОНУМЕНТ
...Зимою 1920 года человек в шубе с собачьим воротником - поэт Алексей Кручёных лепил себе снежный памятник возле Большого театра.
Дважды подходил милиционер, справлялся, что это он тут делает, и, не найдя ничего предосудительного, возвращался на пост.
Торопились прохожие - к домам, где ждал морковный чай; везли на саночках дрова.
Ветер трепал бумажное оперение афишных тумб: расстрельные списки, поэтические вечера.
РОЖДЕНИЕ МЫСЛИ
Сергей Меркуров в тяжких раздумьях перечитывал декрет о монументальной пропаганде, подписанный Лениным и Луначарским: кому пролетариат ставит памятники.
В первом пункте декрета перечислялся ряд имён - более или менее известных и ничего не значащих.
И был второй пункт, вписанный рукою Ленина (скульптор об этом знал), который гласил: "Исключить Владимира Соловьёва".
А у Сергея Дмитриевича в мастерской стояла уже законченная мраморная композиция "Мыслители России": Лев Толстой, Фёдор Достоевский и... тот самый, запретный ныне Соловьёв.
Художник подошел к морозному окну. На мостовую падал медленный, мохнатый, на птиц похожий снег.
Меркуров оглядел со всех сторон крамольный монумент и, вздохнув, решительно взялся за зубило и молоток.
Через час опального философа не узнал бы сам Дзержинский: гладко выбритые борода и усы, голова острижена "под ноль"...
Ваятель истово перекрестился.
Теперь завершающая фигура триптиха носила новое названье: Мысль.
До пятидесятых годов она простояла в палисаднике "дома Ростовых" на Поварской, а затем исчезла.
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА
Анна Андреевна пришла к Горькому просить за мужа.
Тот внимательно выслушал и повёл показывать свою коллекцию текинских ковров, реквизированных у буржуазии.
Говорил о грядущем мире, о рождении нового человека. Цитировал Короленко: "Человек создан для счастья, как птица для полета"; Чехова: "В человеке всё должно быть прекрасно - и душа, и тело, и мысли, и одежда"; свой собственный кодекс гуманизма: "Если враг не сдаётся, его уничтожают".
Насчет мужа ничего не обещал.
СОЦИОЛОГ
Человек в жёлтой куртке покупал и раздавал арбузы детям на улице. Он только что вышел из следственной тюрьмы. Это был Питирим Сорокин.
Он вошёл в свою комнату. Она была пуста. Сквозняк гонял по половицам обрывки бумаг. Ни книг, ни рукописей не было.
Он по памяти написал "Систему социологии" (два тома) и "Общедоступный учебник социологии" - и выпустил их в Ярославле в дни белого мятежа, который сам же организовал.
Приват-доцент Петроградского университета Питирим Александрович Сорокин был личным секретарём премьер-министра Керенского.
Его дед был зырянским шаманом.
В ЧК застрелили его друга, тоже социолога, Петра Зепалова. Сорокин, сидевший в соседней камере, остался жив - непонятно, почему.
Учёный посвятил "Систему социологии" памяти Петра Зепалова.
Потом он двинулся на север - бунтовать Архангельск.
РЕФЛЕКСИЯ
Пишу, как всегда, в электричке. Как всегда, тоскую по России. Ощущаю, как счастье, иллюзию ночного поезда: кажется, что движемся назад - стремительно, преодолевая время. Это чувство переполняет меня неизъяснимо - ни в чем я не нуждаюсь так, как в нем.
- Люди живут насыщенной серятиной, - сказал отец Александр Мень.
Хочется не захлебнуться.
Иллюзии интересны тем, что они суть факты духовного мира, и этот способ бытия сообщает им конструктивный характер.
ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Утренний город окутан был туманом. Сквозь молочно-серую его пелену проступали острые, как морские скалы, крыши домов.
Что это со мной? Отчего так тяжело на душе, словно я всю ночь, не переставая, курил трубку?
Есенин вышел из гостиницы и завернул за угол. Его пугали безлюдные площади чужого белоглазого города, Он бежал сюда, чтобы забыться, бежал от самого себя, заранее зная, что это невозможно и мир обречен.
В таких состояниях нельзя садиться за руль, ходить по канату, разговаривать с незнакомыми, выступать публично.
В ушах звенел его же собственный истошный визг:
- Айседора, ты дура!
И звон стоял посуды и зеркал в дорогом, приличном, коврами устланном отеле "Берлинер".
И шёпот Клюева подзуживал:
- Зря, Серёжа, Изадорку-то бросил - хорошая баба, богатая. Сапоги б мне справила...
- Ничего, Коля, - утешал Есенин, - будут тебе сапоги…
А Клюев сладким петушиным голоском, заглядывая в донья глаз да гладя Серёженьку по стылым пальцам, всё убеждал:
- А поедем мы, Серёженька, во северны края, на Бело озеро, на остров Валаам, ко обрядцам да скобцам. Поживём в скиту сосновом, в братской обители - тихой пристани. Стоит остров середь озера, а на нём - чудо-город-монастырь. А и сядем мы с Серёженькой за вёслицы кленовы, в дубовой челнок, да и поплывём невемо куда. Хорошо!..
И завел свое: о Божьей Матери Владимирской, о Пирогощей, о Спасе Ярое Око.
И глядел из угла, не мигая, угрюмый мужицкий Бог.
Надо честно прожить этот период и дойти до конца пропасти.
- Вот ты, Серёжа, хорошую вещь написал... - Клюев пальцы распростёр, припоминая: - "Чёрный человек, чёрный человек..."
- "Чёрный-чёрный - на кровать ко мне садится", - угрюмо промычал Есенин, подпаливая папиросу.
- "Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь", - продолжал Клюев. - Великая вещь, - сказал он без всякого восторга, а скорее с хозяйственным оглядом. - Всемирного будет прославления вещь. Вот только я чего, Серёжа, думаю: ну, как её в Африке пожелают перевесть? Что будет? Ведь для них чёрный человек - не страшен: они сами чёрные. - (Клюев истово перекрестился: "Прости, Господи, душу мою грешную, ежели чего не так сказал. Помилуй грешного аза. Аминь".) - Как тогда?
- А ведь и вправду... - Есенин занедоумевал.
- Может, подходяще будет: "Белый человек"? - поинтересовался Клюев.
- Точно! - Есенин обрушил кулак с тяжёлым перстнем на стол. (Чашки вздрогнули. Половой покосился на столик с загулявшими поэтами.) - Точно: "Белый человек"! Так и надо переводить.
- И актуальность момента появится, - поощрил Клюев. - Как там у тебя в конце? "Я взбешён, разъярён..."
- "И летит моя трость..."
- "Прямо к морде его..."
- "В переносицу!"
- Представляешь, что скажут негры Африки? Правильно, скажут, режет товарищ Есенин: надо бить этих колонизаторов!
Дожить до смерти. Я не знаю ни одного человека, которому бы это не удалось.
Утром Клюев, надев на шею дарёные сапоги, пешком ушёл в Олонетчину.
Что-то хрустело под ногами. И невозможно было понять, лёд это или битое стекло.
НАВАЖДЕНИЕ
И был один образ, при воспоминании о котором у Кати леденело сердце.
Высокий мужчина в сатиновой рубахе, плисовых штанах и красных сапогах появился в дверях.
Это был Григорий Распутин.
С СОБАКОЙ ПОД ДОЖДЁМ
Всю неделю, не переставая, лил дождь.
Вот уже третье утро подряд Маяковский гулял с собакой под дождём.
Собаку оставили друзья, а сами уехали в Париж на целый месяц.
Это была добрая, тихая сука - ирландский сеттер.
Она будила его на рассвете, тычась в лицо холодным носом.
Поэт послушно вставал, отбрасывая одеяло, подходил к окну.
Дождь стучался в темное стекло безутешной жертвою погрома.
Владимир Владимирович одевался в полумраке, натягивал боты и прорезиненный плащ, брал в руку палку и ("Найда, фьюить!") выходил на улицу.
Словно снова обрушил на землю потоп разгневанный большевиками Бог. Разверзлись хляби небесные. (Ах, хлеба бы нам, хлеба...) Бронзовые крендели свисали над Мясницкой фаллическими знаками. Светили газовые фонари.
Поэт любил этот предутренний час, когда пробуждаются трамваи, а по булыжным мостовым лениво цокают копыта да вскрикивают сонные извозчики.
Маяковский был певцом катастроф и бурь. Ему нравилась война, пафос разрушения.
Он обладал своеобразной куриной слепотой: для него не существовало определенных явлений - таких как старость, смерть, погода, вообще природный мир.
И есть вещи или явления, к которым реэмигрант должен привыкнуть, и к которым привыкать невыносимо трудно: например, тошнотворный запах немытых тел, грязи и блевотины в местах скопления людей.
Вдруг остро вспомнился Монмартр, марсианские параболы Sacre-Coeur. Когда-то там, на алой мостовой, лежали, умирая, коммунары, и дамы зонтиками прикалывали их. Потом французы ужаснулись и построили на этом месте храм - параболы марсианских куполов...
Пробираясь с собакой Кривоколенным переулком к Чистым прудам, Маяковский размышлял о том, какой памятник воздвигнут ему - поэту революции - победившие пролетарии в Коммунистической Федерации Земли.
Скорей всего - летающий фрегат, чьи обтекаемые очертанья предугадала распластанная в небе Sacre-Соеur.
Но вообще-то Владимир надеялся, что коммунисты будущего его воскресят.
Поэта мучил насморк. Он сморкался в большой батистовый платок, закуривал, притулясь в подворотне, и, перехватив цепочку собачьего поводка, двигался дальше.
С лёгкой горечью припомнились чужие строки: "Мой отец простой водопроводчик. Ну, а мне судьба судила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, я стихов вызваниваю сеть".
У Маяковского был своеобразный комплекс неполноценности: "Столбовой отец мой дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка".
Почему-то подумалось: "Я пригодился бы парижской ЧК - хорошо знаю город".
В первом, поспешном издании поэмы "Ленин" он обнаружил две досадные ошибки: "отобрали... и раем разделили селеньице" (А у него было - "разделали") и "к векам коммуны сияющий генерал" (вместо "перевал").
Наборщик в простоте спутал буквы - переврал.
К тому же ведь и вправду - отбирали и делили...
И генерал сияющий уже маячил невдалеке - на перевале к тридцатым - красивый уголовник в жёстком воротничке и мягких крадущихся сапогах.
АГИТАТОР
Крутилась пластинка. Сквозь скрип и скрежет патефона доносился неторопливый уверенный голос с раскатистыми горскими интонациями:
- Я не собирался выступать, но вот товарищ Хрущёв очень просит меня об этом. Ну, что я могу сказать, товарищи? Есть такие депутаты: ни Богу свечка, ни чёрту кочерга; ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Что ж, товарищи? Голосуйте за Сталина. Товарищ Сталин вас нэ подведёт.
Эта - предвыборная - речь вождя особенно нравилась Феликсу Чуеву, и он всякий раз, воспроизводя её, делал горделивый, эротически-смачный акцент на этом "нэ".
ПАЛИТРА
Гитлер так возлюбил коричневый цвет, что даже любовница у него была - Ева Браун.
НОСТАЛЬГИЯ
Феликс Чуев говорил мне, что разведчик, засланный в армию противника, естественно, добросовестно выполняет все и любые приказы "своего", то есть вражеского командования, забывая порой, в какой же армии он служит на самом деле. И рассказал о своем знакомстве с ветераном военной разведки, который, в припадке дружеской откровенности, провёл его в свою спальню и распахнул платяной шкаф. Там висели два мундира - русский и германский времён второй мировой войны. К советскому кителю была прикреплена звезда Героя, а к немецкому - эсэсовскому - рыцарский Железный крест.
Так возникло стихотворение, оканчивающееся словами: "Рейхсканцлер Гитлер крест ему вручал, и золотую звездочку - Калинин", - исполненное горькой ностальгии по пакту Молотова-Риббентропа.
СЕМИОТИКА
Прихожанин спросил отца Александра Меня, почему вояки вермахта изображали на своих танках и самолётах наш крест.
Отец Александр объяснил, что нацисты пользовались краденой символикой.
ДОЗНАНИЕ
Слово "Партия" звучало как "Patria" - и как женское имя.
- А ты разоружился перед Партией?
БЕССОННЫЕ НОЧИ ЧК
Арестовав жену своего очередного соратника, Сталин сам допрашивал её.
ЕЛЬ
Комкая гитару, как бы желая спрятать её от посторонних глаз, вышел певец с внешностью парикмахера.
"Всю ночь кричали петухи и шеями мотали..."
Пел он неуверенно, шепеляво, картаво, путаясь в аккордах, но необыкновенно выразительно ткал ребусы слов, задевая щемящие струны души.
При этом выяснялись странные вещи: что "Моцарт на старенькой скрипке играет..." - а старенькая - это очень дорогая, с прекрасным тембром. И ель становилась отзвуком империи. И неумелое пение под подъездную или дачную гитару превращалось в высокое искусство, заставляя кучу мусора под дворницкой метлой играть бриллиантовыми красками.
"И комиссары в пыльных шлемах..."
Никто не понял, что комиссары склонились над убитым врагом, разглядывая его: над своим они сняли бы шлемы.
(Розовые карамельные окна сквозь трамваи и метель...
И это - тогда - называлось Россией.)
А мне припомнилась супружеская пара, которая всю жизнь учила детей игре на скрипке в городе Тамбове.
Часть вторая
НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАМБОВ
Фамилия их была музыкальной - Реентович. Мне кажется, писаться она должна была - Регентович, иначе теряла смысл. Он и был настоящий скрипичный регент - Марк Наумович с литыми чугунными усами и властным взглядом цирковых огромных глаз. Никто из их учеников не стал великим скрипачом, и это очень характерно. Даже сыновья. Старший, Юлий Маркович, был скорее выдающимся организатором - он создал ставший знаменитым ансамбль скрипачей. Младший, Борис Маркович, и вовсе забросил скрипку, став виолончелистом в оркестре того же Большого театра.
Под конец жизни Мария Моисеевна совсем оглохла.
Её сестру звали Раисой.
И имя это, и эта глухота вернулись ко мне через много лет, накрепко вплетшись в мою судьбу, как и музыка.
И Тэрнер, Тэрнер...
Музыка звучала всё больше итальянская - Вивальди, Паганини - вычурная, романтическая и совсем не подходящая к русским снегам. Разве что поляк Венявский, бывший русским подданным. Хотя вот Чайковский, который сочинял всё то же самое, и к снегам это вполне подходило. Да, Чайковский.
И огнедышащий катер Тэрнера, тащивший по водам залива на кладбище кораблей фрегат, видевший Трафальгарское сражение. Фрегат был похож на скрипку. И - на смычок, подаренный мне Марией Моисеевной.
На скрипке была выжжена надпись - "Steiner".
Доктор Штейнер, не имевший, видимо, никакого отношения к моей скрипке, говорил, что Бог живёт внутри человека.
Скрипку мне подарил дядя Алексей Андреевич - старший брат моего отца. Она была обшарпанной, и он покрыл её лаком, после чего скрипка оглохла. Вскорости и он сам оглох (догнала военных времён лихорадка). Помню, как дядя Лёша разговаривал, смешно приложив ладонь к оттопыренному уху.
Тэрнера при жизни не признавали. Потом только во Франции появились столь же колоритные колористы - импрессионисты, изрядно испортившие вкус русской публике, но те изображали убегающую видимость земного, плотяного, вещественного бытия, хоть и сотканного из лучей света, а Тэрнер видел духов.
Вот и писали импрессионисты стога да пикники, балерин и проституток... Хоть бы одного ангела нарисовали.
В недрах человека скрыта бездна. В недрах человека скрыт Бог.
Обратное течение времени. Мама взяла к нам в дом Женю Земцова - сироту, обещавшего стать гениальным скрипачом. Он переиграл руки, когда переехал от нас. Пророчество или подсказка? Предчувствие судьбы или чужая карма, взятая на себя, а потом отброшенная, но лишь мнимо, видимо, ибо карма не имеет реверса.
Заманчиво, зазывно звучали их имена: Лёша Кожевников, Женя Земцов, Шурик Кабасин... Или: Зоя Истомина. Ну как ещё могло звать скрипачку? Только так: Зоя Истомина - именем тонким, нежным и возвышенным, как запах канифоли, снежной пылью оседавшей на струнах.
У всех учеников Марии Моисеевны на шее, в том месте, куда прикладывали скрипку, был шрам, на кончиках пальцев левой руки, твёрдых и чёрных, как четвертные ноты, - бороздки - след фанатически-усердных занятий. Кроме меня, бездельника...
Лёша Кожевников повредил руку (вывихнул или сломал) на физкультуре, во время прыжка. Шурик Кабасин вообще сошёл с ума. Женя Земцов растянул сухожилия, доучился-таки, сочинял даже музыку и исчез где-то в Ульяновске, успев перед этим жениться. Что стало с Зоей Истоминой, я не знаю.
Шурик, "Schroeder", Шрадик...
В кабинете Марии Моисеевны, увешанном фотографиями, стоял кабинетный рояль. Возможно, "Schroeder". Они занимали восьмую квартиру в доме 2-а на Студенецкой улице в Тамбове. Прямо под окнами тёк Студенец - ничем не примечательный ручей, бывший некогда судоходным. А за ним - стадион (возможно, бывший монастырь, как это нередко бывало в русской провинции).
Год продержалась тамбовская республика крестьян-повстанцев, упиравшихся военному коммунизму и чуявших коллективизацию. Ждали прихода с Дона подкрепления - белых войск. На чём был основан этот слух, неизвестно. Но только пришли туда ночью на конях отряды ЧОН во главе с Тухачевским - под видом белых.
Был устроен маскарад - с погонами, знамёнами, кокардами. А ночью, после дружеской пирушки, повязали тамбовцев сонными да и вывели всех в расход.
Тухачевский изображал, надо полагать, генерала. А может, полковника - не знаю точно. Но только с контрреволюцией было покончено в одну ночь.
Автопортрет Тэрнера. Тэрнер ничем не интересовался, кроме живописи, и никогда не был женат.
И вот теперь, когда в моём кабинете (он же зала, спальня и гостиная, а также кабинет моей жены) стоит "Schroeder", купленный по случаю в Путевом проезде, - старенький, обшарпанный, без репетиции, сравниваемый моими друзьями с необъезженным мустангом (из-за причудливо тугой клавиатуры), - я воспринимаю его как карму - перст и дар судьбы и не применяю ни на "Blutner", ни на "Petroff".
С мустангом моего "Schroedеr'a" сравнивает мужественный певец, от которого я и узнал о тамбовском карнавале Тухачевского.
То-то все приезжающие из Тамбова жалуются, что народ там какой-то ущербный - вроде как недоделанный. Ну так как же! Косилка революции прошлась. Что там осталось, кто уцелел и дал плод - одному Богу известно.
Меня назвали Владимиром в честь Ленина. (По другой версии - в честь младшего брата моего отца, который очень меня любил.)
"Сотня юных бойцов из будённовских войск..." - пел тоненький девичий голосок. И в этом было что-то по-человечески мещанское, как закатный вечер, алый, как пламя, над обрывом к Студенцу, как керосиновая лампа на столе, как образа в углу, как цокот верховых коней над тихим весенним Тамбовом, как пасхальные яйца и свечи, как лепестки "китаек" и вырезные ставни, глядящие на Пензенскую улицу.
Житейская археология. Я уловил Россию в камнях булыжной мостовой Тамбова, по которым гулко прокатывала телега с молочными бидонами.
Живое, живоносное начало древесины встречало меня в скрипке, кисти, подоконниках и крашеных полах.
В окнах террасы, называемой сенцами (наверно, сено в них хранили в деревнях в старину) были вставлены цветные стёкольца - красные, синие и, по-моему, оранжевые, и всяк, входивший в них, делался как арлекин, - но я тогда этого слова не знал, пользуясь, не называя, словом "клоун".
Герб Тамбова изображал собой улей с тремя кружащимися над ним пчелами. Впрочем, сами жители города, отличавшиеся известным скептицизмом в отношении его ценности в истории, истолковывали это изображение иначе: как сортир с кружащими над ним мухами.
На базаре тамбовском крутилась карусель. И пригородный поезд, подкатывая к перрону, мелькал перед глазами так же слитным смешением вагонных окон, дверей и тамбуров.
Базарную улицу так все и звали Базарной (на ней располагался базар), с трудом привыкая к новому названию - Сакко и Ванцетти, - отдалённо улавливая в нём намек на мочу. Но со временем привыкли, как и ко всем другим нововведениям.
Было много меди - медалей, оркестров, стреляных гильз.
Полководцы с осанкой шахматных коней.
Твёрдые позолоченные погоны, мундиры со стоячими воротниками и ватной набивной грудью, синие галифе подняли боевой дух армии на недосягаемую высоту. Тогда же возродился русский патриотизм, не угасший и поныне.
В то время были Чомбе, Касавубу и ещё какой-то Мобуту. Все ругали Лумумбу дураком за то, что он сам пришёл к врагам на расправу.
У нас на кухне висела большая карта мира. Я зачертил красным карандашом жёлтое Конго. Kонг было два: Браззавиль и Леопольдвиль. Потом одно из них стало - Киншаса, не помню уже, какое.
Политики были смехотворные - Кеннеди, Хрущёв.
Выстрел Гагариным в небо произвёл ошеломляющее впечатление.
Я терпеливо ждал, как неизбежного прихода весны, с таянием льдов и снегов, когда вся карта Африки станет красной.
Помню, как радовали красные чернила, - независимо от содержания.
В Тамбове я был известен как поэт патетического темперамента.
Чернила, густея, зеленели, отливали жирным жуковатым золотом, а будучи разбавлены и разбавляемы всё больше (примерно как чай пьют, доводя до платиновой светлоты), становились синими, а затем и голубыми, приобретая постепенно белёсость расступающегося утра за окном - чёрным, зимним, в которое был чётко вписан белый крест рамной перекладины.
Разными были наши формы, галстуки, чернила: у одних - шерстяные, шершавые, приятного маренгового цвета; атласно-шёлковые алые морковки, рубиновые язычки пурпурного пламени; густые, цвета старой бронзы, с зеленью и позолотой; у других - сизо-фиолетовые, как свалявшийся туман, из облезлой линялой вискозы; хлопчато-бумажные, блёклые, мнущиеся, жёваные трубочки; унылые, подслеповато-голубые, с комочками закисшей грязи. И перочистки, и пеналы, и завтраки наши расслаивались по этим полюсам призорности и бесприглядства, как и места за партами: поближе к доске и подальше, рядом с круглой отличницей Зоей Изумрудовой или ябедой Тайкой Таякиной, а то и ужасным второгодником Балбекиным, весь перезревший пыл которого, казалось, уходил в адские замыслы устроения пакостей всем: учителям, одноклассникам, животному и растительному царствам, а также миру вещей.
Оценки тоже выставлялись по стратам. Троечнику Анурьеву даже за безукоризненный ответ нечего было надеяться получить больше четвёрки, которой он несказанно радовался, - той самой четвёрке, над которой горько плакал отличник Коля Кузнецов. Это было как разница в зарплате: для одних тридцать рублей - деньги, для других - ничто. Отличникам двоек никогда не ставили, так же как и двоечникам - пятерок.
Пацаны в подъезде пели о красотке Розенели. Луначарский знал толк в женских чарах, раз его жена прославилась не только в синематографе, но и в блатном фольклоре.
Иногда мной овладевали империалистические замыслы - хотелось уничтожить Турцию и отнять у неё Арарат, Ван и Эрзрум, Константинополь, Босфор и Дарданеллы; вернуть Аляску, Дальний и Порт-Артур, Финляндию и Польшу; Германию измельчить на города и пушками уткнуться, остужая раскалённые жерла, в Атлантический океан.
Мы любили песню "Коричневая пуговка" - про то, как "коричневая пуговка валялась на песке". Шли ребята, не обратив на неё никакого внимания, но среди них был босой и потому особенно бдительный пионер Алёшка.
"Случайно иль нарочно - никто не знает точно - на пуговку Алёшка ногою наступил".
А на пуговке оказалась надпись на иностранном языке. Ребята, посоветовавшись, сдали пуговицу в милицию. По ней вскоре нашли шпиона, потерявшего коричневую пуговку. Шпион шёл со специальным заданием - кажется, отравить колодец или взорвать завод, где работал Алёшкин папа.
Видимо, иностранные вещи были в тот период такой редкостью, что по оторвавшейся пуговице можно было поймать диверсанта. В период железного занавеса и холодной войны, да ещё в провинции, это вполне могло быть реальностью.
Брешь пробил всемирный фестиваль. Потом появились стиляги, щеголявшие во всём заграничном, а позднее и фарцовщики, наладившие снабжение советских граждан зарубежным барахлом. Стиляг ловили бригадмильцы, стригли машинкой наголо, узкие брюки резали ножницами, а галстуки с обезьянкой и пальмами выбрасывали. Да ещё фотографировали со вспышкой и вывешивали портреты стиляг в самых людных местах.
Но Запад брал своё.
В шестидесятые годы появились звёздные "мальчики" - дети НТР. За ними выплыли "старики" (под влиянием Хэма). Потом попёрли "деревенщики".
...Нашу "Литературную Россию", занимавшую почти весь верхний этаж серого конструктивистского здания на Цветном бульваре, так же как и основного домовладельца - знаменитую и могущественную "Литературную газету", злые языки называли бульварной прессой - именно из-за их местонахождения. По ту сторону бульвара стояли старый цирк и центральный рынок, что также давало повод для двусмысленных шуток, но этим поводом, по счастью, никто, насколько мне помнится, так и не воспользовался. Газеты жили в мире и добрососедском согласии, словно и не было между ними распрей в начале шестидесятых годов, когда были они ещё тощими, выходили три раза в неделю и одна из них, а именно нынешняя "Литроссия", носила название "Литература и жизнь" (превращенное врагами в унизительную аббревиатуру "Лижи").
Я хорошо помню их бесконечную, доходившую до драки полемику, потому что ходил в школу через сквер, где щиты с этими газетами стояли рядом, в каждом номере бурно опровергая, обличая и повергая друг друга в прах.
У нас в Тамбове литературные события были в чести, много было пишущей братии, да ещё из Москвы, что ни осень, наезжали на тамбовскую ниву Игорь Кобзев, Виктор Боков, Алексей Марков с рыжей петушиной бородой и - считавшийся известным московским поэтом, но в Москве абсолютно никому не известный наш земляк - Василий Журилов, носивший прическу в форме лиры и всегда читавший с трибуны стихотворение про навоз, дающий основу хлебу.
Трибуной чаще всего служил обширный гранитный постамент памятника Зое Космодемьянской, стоявшего здесь же в сквере перед школой, в которой я учился.
В этом же сквере с нами - пионерами встречались пузатые старые большевики, брызгавшие слюной на алые галстуки, которые мы каждый раз им привязывали (куда они эти галстуки девали? у каждого дома валялось небось штук по пять дарёных).
Одно время меня "подбрасывал" к школе райкомовский шофёр дядя Жора на жуковатом "Москвиче" старого, еще "эмковского" образца, но это продолжалось недолго - пока мой отец, в диагоналевой гимнастерке, галифе и военных сапогах, с отчетливым пулевым шрамом на правой щеке, работал секретарём райкома партии (после бурного пленума в 1955 году, когда все коммунисты проголосовали за отца, он всё-таки не был избран, поскольку критиковал в своей речи самого секретаря горкома Лобова).
Это избавило меня от едких насмешек учительницы Екатерины Фёдоровны ("сия персона не может ходить пешком"), но не от некоторых льгот, которые полагались мне как сыну горкомовского, а потом и обкомовского работника: спецбольницы с чехлами на пустеющих диванах, дорожками и фикусами, а также пропуска на трибуну на площади Ленина в дни ноябрьских и первомайских торжеств.
Улица Интернациональная (бывшая Дворянская), по которой мы шли с отцом, шурша новенькими болоньевыми плащами, безлюдная в этот ранний час предвкушения праздника, была украшена флагами, гирляндами ламп, портретами вождей. На перекрестках её перегораживали встык составленные грузовики.
Мы предъявляли милиционерам картонные пропуска.
Несли плакаты, символизирующие дружбу народов. Русский был одет в нормальный европейский костюм - пиджак, рубашку с галстуком. Украинец был также в пиджаке, но уже в вышитой рубахе. Прочие народности шли в один ряд, одетые в национальные костюмы: в полосатых халатах - народы Востока, кавказцы в бурках и лохматых папахах, прибалты в жилетках, соломенных шляпах и деревянных башмаках. Русская женщина - русоволосая, ясноглазая, - впрочем, также была наряжена в фольклорный сарафан.
Шпана тоже готовилась к празднику. Загодя заготавливались резинки, проволочные пульки, иглы, ученические перья с одной обломанной половинкой для сугубой остроты оставшейся - всё это предназначалось для пуляния, метания и просто прокалывания воздушных шаров. Так, обломанные перья были весьма остроумным метательным снарядом, оснащённым бумажным оперением, примотанным к перу нитками, что давало довольно высокую точность броска.
На трибуне было холодно, но весело. Нас, пацанов, пропускали вперед, к самым канатным заграждениям. Отцы солидно топтались сзади, потирая перчатками замёрзшие носы и уши. Матери, слава Богу, оставались дома, проклиная вчерашнее "торжественное", где они, украдкой вынимая затёкшие ноги из праздничных тесных туфель (на "торжественное" полагалось приходить с жёнами), вытерпливали занудный, неизвестно кем сочинённый доклад "первого", маялись в перерыве по бархатному фойе облдрамтеатра имени Луначарского, где, стесняясь, пили лимонад с пирожным, а потом ещё гадкий концерт, с которого, впрочем, можно было и удрать, но считалось неудобным.
Перед канатами, в масляных белых квадратах, стояли чёткие, как заводные игрушки, солдаты с карабинами и примкиутыми к ним кинжальными штыками.
Парад всегда радовал, особенно когда военные, дружно открывая рты, кричали "ура", единым махом вздымая над асфальтом голенища надраенных сапог, а демонстрация была похожа на цыганский табор или тамбовский базар, с пестротой одеяний, разнообразием нетрезвых лиц, лузганьем семечек, плясками вприсядку и пеньем под гармошку - и всё это на ходу. Иногда в колонне шёл свой оркестр, и тогда военные музыканты на площади умолкали, и мы слушали гуканье большого барабана и взвизги любительских альтов и труб.
Провозили всякую разность на машинах, несли портреты и лозунги, но это всё было больше похоже на сельскую гулянку в престольный праздник, чем на солидное политическое шествие, если бы не лозунги, изрыгаемые рупорами с трибуны, в ответ на которые толпа очень охотно, хотя и вразнобой, кричала "ура".
К колонне всегда пристраивался пьяный, который путался у всех под ногами и иногда падал у самой трибуны, подхватываемый стражами порядка.
Мы всегда выстаивали демонстрацию до конца, потому что каждый раз среди трибунных пацанов проносился слух о том, что под конец по площади проскачут три богатыря на конях, в полном снаряжении. Но богатыри так никогда и не проскакали перед красной трибуной, а мы свято верили в них и всё ждали, ждали...
Дети партийных работников любили, встав на перемене между парт, произносить следующую речь:
- Товарищи! Все мы - товарищи. Но среди нас есть такие товарищи, которые нам не товарищи.
Второгодник Попов сочинил речь под названием "Мы - русские люди", где говорилось о том, что мы должны отлавливать немцев и "вешать их на вешалках на площадях".
Выпив, взрослые морщились и говорили, как бы удивляясь:
- Крепка... советская власть!
Так и запомнилось с детства: что советская власть крепка и что при упоминании о ней надо морщиться.
Когда я впервые услышал "Интернационал", я решил, что "работники всемирной", которые "владеть землёй имеют право", - это партийные работники - друзья и коллеги моего отца, а "паразиты" - их враги. Мне кажется, что и они так думали.
На сером фронтоне клуба "Знамя труда" была вытесана барельефная композиция: по одну сторону - "работники всемирной" - мужественные, мускулистые, с молотками и знамёнами, а по другую - пузатые, монстрообразные "паразиты" в цилиндрах, обречённые на истребление диктатурой пролетариата.
Так и впечаталось с детства: что пролетариат - это начальство, а диктатура - когда они делают, что хотят.
Во всех подвальных зарешёченных оконцах виделись мне паукообразные капиталисты и помещики, прикованные цепью к стене, пожизненно выполняющие общественно-полезный труд. И мы, первоклашки, со страхом припав к очередному подвалу и угукнув, опрометью бросались прочь от этого логова буржуев.
"Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала".
Меня поражала документальная подлинность этой песни. В американской армии разведка до сих пор называется "cavalry" - кавалерия.
И еще привлекательная фигура "буржуя" - в цилиндре, фраке, с тростью. Его рисовали на плакатах, он остался неизменным персонажем оперетт, ради него вспоминаются события гражданской войны. Чаплин - тот же мелкий, опустившийся буржуа.
И - тоска по мужику, бывшему существеннейшей частью жизни России.
Когда отец напряжённо думал, мучительно билась жилка на правом виске, чуть пониже осколочного ранения, и этот комок умной плоти, рождавшей мысль, повреждённой войной, а потому обречённой на приливы боли, бледно-розовой, чуть прикрытой прядью поседевших волос, трепетной, был неслышным укором легкомыслию моей жизни.
Мне представился дом, внутренние стены которого были вынесены вовне: с картинами, портретами родных, может быть, даже иконами. Обои были снаружи. Внутренние и внешние стены, иными словами, ничем не различались между собой.
И другой дом, где внешние стены были внутри, там был и внутренний дворик.
И мне вспомнился трубач Миша, у которого как будто вовсе нет внутреннего плана бытия, а есть только внешний, как отражатель, с его поверхностными, мгновенными репликами-реакциями, заезженными, вульгарными шутками, - всё это только снаружи, а внутри - лишь жидкости да слизи: кровь, моча, сперма, желчь, слюна, желудочный сок; может быть, и слёзы, хотя в это не верится. Мыслей там нет, только мозги: кашевидная, слизистая масса. Ну, и ещё знание нот - он ведь трубач.
И ещё вспомнилась Люда, у которой словно бы нет внешнего плана бытия, а есть только внутренний, и она от этого чувствует себя неловко, и больно ушибается там, где не ушибётся никто, и движется как-то скомканно, боком - от отсутствия формы, и делает всё не в такт, потому что вся - внутренняя - наружу - без обертки.
Я думаю о тех людях, из которых складывается мой автопортрет. Они отражаются в моих глазах, как и дома, события. Ведь единственная реальность - человеческая душа, сознание, всё существующее существует в нашем сознании. Всё, что я знаю, что есть в моей памяти и душе, и составляет мой автопортрет.
Вспоминаются кондукторши в мёрзлых тамбовских автобусах - горластые, в матерчатых перчатках с отрезанными пальцами, чтобы легче считать медяки. Одна из них, с вострым и добрым дегенеративным лицом, никогда не брала с меня денег. Деньги тогда были дробные, со многими десятичными долями, которые теперь не учитываются.
Возле кондукторши была электрическая печка, о которую она грела пальцы, обжигая их после морозной гремящей мелочи. Мы дышали на пятаки и придавливали их к окну, протаивая стеклянную полынью, через которую виднелась улица.
Дикторшу дядя Слава фамильярно называл Ниночкой Шиловой. Говорили, что у неё один глаз стеклянный: выбодала рогом корова на ВДНХ. И все женщины страны не слушали сообщений, а только гадали, какой глаз стеклянный - левый или правый.
Ещё все удивлялись, когда диктор Балашов, облысевший, стал вновь волосеть, покрывшись лёгким пушком, а потом и буйной пенистой шевелюрой. Одни говорили, что у него парик, а другие - что волосы настоящие, которые ему вырастили в Париже.
Были популярны куплеты: "Римский папа грязной лапой лезет не в свои дела. И зачем такого папу только мама родила?" И еще: "Дяде Сэму за гроши продал душу Чан Кайши. И теперь его душа уж не стоит ни гроша".
Дядя Сэм изображался с бородкой, в цилиндре. Он часто клал ноги на стол.
На смену сталинскому зачёсу назад, выражающему стремление общества вперёд и выше, пришла косая челка с пробором, отразившая либерализацию общества.
Помню литературные вечера в редакции молодёжной газеты, столь густо увешанные табачным дымом, просто устланные им, что забывалось, ради чего, собственно, здесь собираются, и казалось, что главным делом является именно курение - такое себе каждение богу прозы и поэзии, еженедельный ритуал.
Комическое впечатление производила "госпожа Хрущёва" - знаменитая Нина Петровна - толстая, сияющая, слегка смущённая вниманием. На званых международных вечерах они с супругом являли собой торжество демократии, вероятно, шокируя аристократов простецкими манерами.
Тогда и появились звонкие, бойкие "мальчики" с баскетбольными сумками, ни в чём не схожие с молодогвардейцами и обходившие стороной покорителей целины. Им чужды были манерные "стиляги", разоблачённые журналом "Крокодил" и подвергнутые, подобно овцам, стрижке в отделениях милиции бравыми ребятами из бригадмила.
"Мальчики" были спортивны, ироничны и ориентированы на дикий, полный опасностей и приключений Запад. Их духовным отцом был Хемингуэй, пророком - Ремарк, предтечей и кумиром - Уолт Уитмен.
Все они, от прически и кед, от ковбоек до взглядов на жизнь - чистых и распахнутых всем ветрам - были американцами. Их культивировала, преподносила, пачками пекла катаевская "Юность" - "детей Флинта"; раскованные, длинноногие, столичные, воспитанные едва ли не по доктору Споку, они сами себе казались надеждой нации. Вот только слегка мешали старики (не "старички" Хемингуэя, а настоящие - "кони" или "танки"), оставалось терпеливо дождаться, когда они сами отомрут.
Молодые "старички" (или "мальчики", или "сердитые молодые люди") носили хемингуэевские бороды, драные свитера и только-только появившиеся облезлые джинсы. Они не расставались с походной гитарой, ночевать предпочитали в палатке, у костра, пили кофе без сахара в молодежных кафе (которые позднее переродились в гадюшники для проституток, фарцовщиков и воров).
Всюду стали вспыхивать голубые и прочие "огоньки" с чтением стихов, игрой на саксофоне, бурными дискуссиями.
Зашевелились модернисты, в особенности живописцы, получившие остроумное наименование "тля".
Особенные надежды связывались у всех с покорением космоса.
Законодателем моды стал Фидель Кастро. Со всех обложек всех иллюстрированных журналов смотрело его мужественное дружественное лицо, обрамлённое толстовской бородой. Высокий, бравый военный, он являл разительный контраст с низеньким, круглым, штатским Никитой Сергеевичем.
Рассказывали, что однажды Хрущёв посетил выставку московских художников и сказал речь, в которой были такие знаменательные слова: "А кому у нас не нравится, пусть уезжает отсюда к эбене матери". Американцы как будто записали эту речь на плёнку, вырезали кусок со знаменательной фразой, склеили его кольцом и запустили через "Голос". И все могли в течение сколько угодно долгого времени слушать знакомый по бесчисленным выступлениям голос вождя, повторяющий исторические слова: "А кому у нас не ндравится, пусть уезжает, - (или убирается - не помню точно), - отсюда к эбене матери".
Никита Сергеевич никак не мог одолеть премудрость русской грамматики и решил в конце концов её отменить. Писать: "огурци", "конци", "молодци".
...И вот тот самый Человек, который для Хрущёва был другом, товарищем и братом, оказался вдруг бездельником, жуликом и лихоимцем. На смену высокой сознательности пришли органы милиции и прокуратуры - и это в тех самых вожделенных восьмидесятых годах, которых мы так ждали, о которых так мечтали из глубины шестидесятых и боялись только одного - что не доживём.
Да и как было не развалить сельское хозяйство, если повсюду искоренялось травопольное земледелие и заменялось пропашным, насаждалась кукуруза, забивался личный скот. Это только усугубило предвоенное разорение.
Ещё Хрущев любил Америку - тайно, с оглядкой на Китай, но любил - за ум и веселый нрав. Было в нём и врождённое сельское, провинциальное тяготение к городу, метрополии. Он и дома хотел чтоб были как в Америке, и фермы как у Гарста, и демократичен был на американский манер. Жаль только - капитализм им мешает, - думал, видать, про себя.
Американцы тоже по-своему любили Никиту Сергеевича, хотя и считали его дурачком.
А уж как Хрущёв армию подраспустил - тут наши соколы за головы похватались.
Он надеялся победить, в случае чего, с помощью ракет.
Очень обрадовался, когда спутник запустили. Космонавтов любил. Даже и представить себе нельзя было ничего космического без улыбающейся луновидной головы Хрущёва. Кажется, Гагарин ему в улыбке подражал.
И ни один политический деятель не оставил после себя такой дурной памяти - даже Сталин, у которого остались сторонники, чей портрет ещё так недавно украшал ветровое стекло каждого третьего грузовика. Кто повесит у себя портрет Хрущёва?
Он и ушел-то на американский манер - не умер, как подобает нормальному вождю, а был выбит из седла соперниками.
На подносе лежали бутерброды, а деньги мы клали сами и сдачу набирали, сколько нужно, из лежавшей тут же мелочи. Так же продавались пёрышки, резинки, карандаши, школьные тетради и прочая мелочь. Доверие всем нравилось, но постепенно обаяние светлых зорь прошло, и начали, сперва робко, а потом всё смелее, хватать всё так, пока самообслуживание не отменили. Там же, где оно осталось, был введён удвоенный контроль.
Хрущёв думал, что, обладая более эффективной социалистической системой, где не разбазариваются народные средства на серьги и яхты для миллионерш, а стихия рынка и кризисы не мешают плановой и неуклонно растущей, легко и чётко управляемой экономике, мы уж точно обгоним США. И он бросил вызов.
Речи Хрущёва были хвастливы и изобиловали вульгаризмами, которые первоначально импонировали всем, а потом стали резать слух: все ж королям не подобает говорить в стиле дворников.
Вероятно, никогда за всю историю России не было сложено и рассказано столько анекдотов, как в благословенную эру Хрущева, длившуюся около десяти лет.
Хрущёв старался ни в чем не походить на Сталина, и это ему удалось.
Ещё он думал, что ускоренному движению вперед мешают пережитки, или, как он их называл, родимые пятна капитализма: тунеядство, хулиганство, религия и модернизм. Стоило убрать эти неприятные пигменты - и мы пошли бы вперед семимильными шагами.
Преступность он решил отменить, преступников перевоспитать. Было модно брать хулигана или вора на поруки рабочего коллектива. Думали, что скоро и тюрем-то не будет. Лагеря он как будто начал потихоньку закрывать.
Но оставалась ещё сталинская гвардия. Да и молодая подросла, которой не по духу были хрущёвские веяния, а нужен был порядок.
Мы никогда не жили так весело, как при Хрущеве. Он был гениальный и простодушный авантюрист, в стиле героев О'Генри.
Казалось, Хрущев и сам радуется изобилию анекдотов о нём. Он любил это слово - изобилие.
Коммунизм был его светлой и простодушной мечтой, представляясь в виде большого универсального магазина в Нью-Йорке, - только расплачиваться по выходе не надо.
Хрущёв считал, что у нас всё не хуже, чем в США, - и быки, и самолеты, а метро даже лучше, да и балет тоже. Балет он любил смотреть из первого ряда партера, откуда всё хорошо видно, - не то что Сталин, сычом глядевший из правительственной ложи в морской бинокль.
...Диск победы. В ранце каждого американского солдата лежала эта пластинка, выпущенная в 1944 году, с записью буги-вуги. Джаз, наиболее свободолюбивая музыка, являет собой яркое противостояние авторитарному сознанию. Они отстаивали демократию. К тому же это искусство негров, а янки воевали против геноцида.
Хрущёв говорил: пусть наши быки с вашими померяются.
Звёздные мальчики мечтали со звёздным билетом улететь к далёким звёздам. А колхозники - на фанерном аэроплане - к едене матери.
Мне приснилось, что воскрес мой отец. Он шёл по Тамбову, по Интернациональной улице, довольно молодой, ироничный, в соломенной шляпе, в костюме и рубашке без галстука, с отросшей чёрной щетиной, и как бы говорил мне:
- Ну, где твой Бог? Я Его так и не видал...
А воскрес он так. Женщина, старая коммунистка, подошла к его гробу и довольно грубо сказала:
- Пётр, чёрт, вставай!
И он встал.
Политики всегда были смехотворными. У нас в доме, в Котовске, жил столяр, которого звали Чемберленом - непонятно, за что.
Степанова, жившего в Тамбове в большом жёлтом доме на углу Пролетарской и Интернациональной, называли Шопеном, хотя играл он не на фортепиано, а на скрипке.
Если быть искренним и бесстрашным, тогда получится хороший автопортрет.
ДЕТИ ЛЕНИНСКИХ ГОР
Контролёрша легко и уверенно, словно тачку катила перед собой, вела через вагоны "зайца".
- Смотрю, она книжку читает, - повествовал в соседнем ряду бойкий среднерусский говорок. - Глянул - книжка интересная, про любовь: она любовь ищет...
Напротив шёл диалог в стиле Проппа:
- "Накинула дочка сеть..."
- Платье женщины - всегда сеть.
Рядом кто-то оглушительно храпел.
На сумку был наклеен портрет Аллы Пугачевой и ещё какой-то бабы с гладкой прической, и мне это было смешно, потому что с Алкой Пугачевой я играл в одном оркестре, в самодеятельности факультета журналистики, и никак не думал, что она станет великой певицей. Она пела на репетиции вместе с красавцем Любомиром Коларовым импровизированный джазовый вокализ, в паузах повизгивая:
- Ах, как это сексуально!
Оркестром руководил Жора Газарян, женившийся на дочери вождя финских коммунистов. Джинсы с отворотами, в которых он, заспанный и небритый, выходил в холл, были непонятны мне, тамбовскому провинциалу, и казались чем-то неприличным. Жора только что вернулся с юбилея Еревана - гигантской, как тогда говорили, всеармянской пьянки - и всем повторял:
- На десять лет старше Рима!
В джинсах было что-то невероятно, неприкрыто, безнравственно мужское - в этой строчке и молнии, заплатках, оттопыренных карманах...
Другая Алла, потрясавшая воображение мощной грудью, стала выдающейся поэтессой. Помню, как она, треща пуговицами лифчика и поводя воловьими глазами, жарила картошку и варила кофе в два часа ночи (кухни тогда еще не запирали) на пятнадцатом этаже высотного здании МГУ, в то время как её подруга - Нина? Лена? - забыл, как ее звали, - с риском для потомства сидя на каменном подоконнике, курила и играла на гитаре. Глаза её были подведены всегда, даже, возможно, раз и навсегда - так это было, крепко сделано.
Ещё у нас была Лина, феноменально некрасивая и компенсировавшая это мощным умом и деятельной страстью к творческой жизни.
- Заявление в партию надо писать синими чернилами, - сказал Вадим Дундадзе. - Это партийный цвет.
5 декабря 1966 года - через год после нашумевшего митинга диссидентов - на Пушкинской площади собрались пять тысяч стукачей и целый день проверяли друг у друга документы.
- Как колчушкой ни тряси, последние капли - в штаны, - говаривал Славик Брусилов, и это была сущая правда (хотя и прискорбная, конечно).
Ещё они с его другом Толиком Бормотовым выясняли вопрос, почему член всегда свисает в левую штанину. По теории Толи Бормотова, предки человека ходили без штанов и, когда они гнались за мамонтом, то в правой руке сжимали дротик, потрясая им (откуда и произошла фамилия Шекспир - Потрясатель Копья), и чтобы член, болтаясь, не путался под ногами, его держали при этом в левой руке. Позднее ориентированность члена влево стала наследственной.
Гера Шуцман любил материться в сортире, когда Миша Смоляник оставался с бабой наедине в своей комнате. Герин голос гулко бился об унитаз, придавая любви студентов особую пикантность.
Когда Миша наутро укорял его, Гера всякий раз делал большие глаза и говорил:
- Откуда я знал, старик? Надо было предупреждать. Ты в следующий раз повесь на дверь записку: "Я с бабой" - и все.
На дверь туалета Гера привинтил упёртую им в бытность проводником вагонную табличку: "Во время стоянки пользоваться туалетом воспрещается", - содержавшую, в контексте мужского студенческого общежития, всем понятный намёк на эрекцию.
Гера был членом КПСС. Студент-старшекурсник объяснял это так:
- Фашистской партии у нас нет - вот он и вступил в коммунистическую.
О Шуцмане говорили, что он - единственный в мире еврей, напрочь лишённый интеллекта. Бывший матрос, боксёр, редкостный грубиян, он был широкогруд и широкоплеч, высок ростом, густо покрыт орангутанговой шерстью.
- Все: решил я не пить, не курить и с дамами дел больше не иметь, - заявил, проходя с чайником по коридору, заросший щетиной Федя Карпов.
- Нельзя, - остерёг Гера Шуцман. - Дамы узнают - морду набьют.
Однажды студентка Валя долго стучалась в запертую дверь мужского блока - хотела попросить конспект. Наконец дверь отворилась и на пороге предстал Шуцман, совершенно голый, окутанный клубами пара. Нимало не смутившись, он осведомился, что ей нужно, и, как истинный джентльмен, предложил войти.
У Геры было любимое выражение:
- Вот такой женщине я бы отдался.
На четвертом курсе он сдружился с советским корейцем Сережей Ке, который тоже был боксёром. Они развлекались тем, что в два часа ночи пели дуэтом, в сопровождении двух гитар, распахнув настежь окна, "Тройку", каждый в своей комнате: один на двенадцатом этаже, а другой - на четырнадцатом.
Шуцман уверял всех, что его отец - советский шпион, живущий в Западной Германии.
Отношение к личным драмам было у него житейским:
- А что? Жопа об жопу - и разошлись.
На старших курсах он долго подбирал себе невесту, всё колебался в выборе между двух- и трёхкомнатной квартирой. Наконец решился на трёхкомнатный вариант, слегка прогадав при этом с фамилией жены, которую он взял взамен своей собственной. Звучала она всё-таки по-еврейски, но была предпочтительнее, ибо содержала и некоторый намёк на Прибалтику.
- Даже такой идиот, как Шуцман... - так говорили у нас на факультете.
...В комнату вошел Детинин - мужественный, с ёжиком серых волос, стальным взглядом и крепкой челюстью американского актёра, исполнявшего роль Спартака в только что прошедшем широкоэкранном боевике. Его чело омрачала мысль, которую он тщетно пытался отогнать от себя. Троекратно извинившись перед всеми, он обратился к Морковьеву, начав издалека:
- У Чехова в записных книжках есть рассказ про одного старика, у которого была большая борода. Однажды его спросили: когда он спит, куда кладет бороду - под одеяло или поверх него? Старик не мог вспомнить. А когда лёг спать, положил бороду поверх одеяла - неудобно. Сунул под одеяло - тоже неудобно. Ворочался он, ворочался всю ночь - а наутро встал и сбрил бороду. Вот и у меня к тебе, Юра, похожий вопрос: ты, когда на унитаз садишься, конец на круг кладёшь или опускаешь вниз?
- Опускаю, - твёрдо ответил несколько растерявшийся Морковьев.
Детинин задумался:
- Почему же тогда круг в этом месте всё время мокрый?..
После чего, откланявшись, галантно удалился.
Комсорг Паша Куяров прославился на английском. Ему попалось в тексте слово "job" (работа). Паша читает:
- "Жоп".
- Comrade Kouyaroff! - в ужасе воскликнула преподавательница.
- I'm sorry. "Йоб", - поправился Куяров.
По ночам перед экзаменами устраивали коллоквиумы: кто что читал - ибо одолеть всю гору программной западной и нашей литературы, да ещё в последнюю, решающую ночь одному человеку было не по силам.
(Помню, именно тогда я поклялся, если стану когда-нибудь писателем, писать как можно короче - чтоб не мучить бедных студентов.)
В ночных консультациях участвовали все расы и народы. Содержание необъятной русской классики многие из нас узнавали в обратном переводе из уст африканцев, читавших ее по-французски в сокращённом изложении.
Но порой дайджест был уж чересчур дайджестом. Так, непобедимому футболисту из Ботсваны попался на экзамене роман Чернышевского "Что делать?". Он пересказал его так:
- Жила-была Вера Павловна. Она не умела читать и писать. Потом пришел Рахметов. Он научил ее читать и писать, - за что получил свой заслуженный "трояк", который носил еще одно - утешительно-эвфемическое наименование: "государственная отметка".
Дипломы детям тропических широт выдавали роскошные, как ресторанные меню, - со званием магистра искусств (Master of Arts).
Наши завистники так и говорили:
- Вон магистры пошли...
Замдекана по хозчасти Ада Леонидовна, виртуозно бравшая взятки, задумчиво глядела на девицу, приехавшую к нам учиться из знойных изысканных стран, прикидывая, куда бы ее заселить. Жора Газарян, работавший в интерсекторе, наклонился к могучему, украшенному голубым брильянтом уху квартироначальницы и громким шёпотом произнес волшебное слово "спецкафедра", означавшее некоторую причастность миндалеокой смуглянки к шпионским интересам нашей Родины на её дальних заморских рубежах, а значит, и полагавшуюся по статусу комнату-"одиночку" в украшенной золочёным шпилем "высотке". Ада мигом выписала ордер.
Танька Замахова потом жутко бранилась, жалуясь приятелям на поселившуюся с ней в одном блоке первокурсницу-"туземку", которая никак не могла приучиться правильно пользоваться туалетом.
- Там все "французы" собрались, - рассказывал Куяров. - Ну, кто во Францию вместе ездили.
Это были отборные стукачи, вроде него самого.
...Войдя в комнату, я застал спавшего на диване человека. Он спал беспокойно, весь съежившись и натянув край байкового общежитского одеяла на голову. Он внезапно проснулся, откинув одеяло от сонного лица с воспалёнными глазами, и, протирая их (волосы при этом путаным пучком-торчком торчали во все стороны), изумлённо спросил, кто я такой.
Лицо его было мне полузнакомо. Потом я вспомнил: это был Слава Брусилов - круглый отличник с предыдущего, уже выпущенного курса. Мы скоро объяснились. Слава вернулся из Египта и его подселили ко мне, пообещав, что он будет жить один (ну да, я же чуть не уехал в Южный Йемен!). А теперь, коли я не уехал, нам предстояло жить вдвоём.
Слава обнаружил трезвость и твёрдость суждений, рассказывая о войне, о лени и трусости наших доблестных союзников по синайской кампании. Я понял тогда, не осознав, а теперь вспомнил, как много значит правда, как преображает она скованного и закомплексованного страхом и демагогическими лозунгами советского человека.
Сертификаты, полученные за участие в иудейской войне, Брусилов бездумно тратил на сигареты "Уинстон" и "Салем", которые блоками носил в общагу. Его невеста Аля, аспирантка биофака, притаскивала спирт, я - апельсины и шоколад, и мы пировали втроём ясными зимними вечерами.
Помню, как Аля билась в истерике после выборов, повторяя: "Я не хочу жить в этой фашистской стране!" - а мы с Брусиловым, как могли, успокаивали её, и подносили спирт, и она пила его, разведённый наполовину, звеня зубами по краю тонкого стакана.
Успокоившись, Аля рассказала, что дежурила на избирательном участке. Когда день подходил к концу, вскрыли урны и стали считать голоса. Полагалось, чтобы "за" было девяносто девять и девять десятых процента. "Против" считался только бюллетень, перечёркнутый крест-накрест, но избиратели об этом не знали, поэтому таких листов вообще не было. Попалось несколько бланков, перечеркнутых наискось одной чертой, с угла на угол. Председатель счётной комиссии разъяснил, что это - "за": товарищи хотели подчеркнуть фамилию кандидата, но рука от волнения дрогнула, и линия пошла вкось. Процентов двадцать вообще не явились на выборы. Председатель, выждав немного, взял пачку чистых бюллетеней да и сунул её, недолго думая, в запечатанную урну, сбалансировав тем самым искомый процент.
Аля пила спирт, и зубы её стучали по тонкому краешку химического стакана...
- Я в аспирантуре остаюсь, - сказал мне Куяров. - Буду на комсомоле.
Так это у них называлось: "работать на комсомоле".
ХРАМ НАУКИ
- Ну, теперь мы хрен оттуда уйдём, - радостно говорил, поигрывая солнечным зайчиком на сапоге, полковник Наживкин.
(Наша армия вошла в Чехословакию. Десантников поразила высокая и сочная трава.)
Военная кафедра была таинственным заведением. Вход охранял бдительный дежурный с повязкой на рукаве. Туда и обратно шмыгали подтянутые бравые офицеры; студенты сохраняли загадочный и многозначительный вид. Все были при галстуках, которые полагались по форме.
Из нас готовили специалистов по моральному разложению войск и населения противника.
Преподаватели на занятиях в открытую делали такие людоедские заявления, что у нас дух захватывало.
Полковник Боровиковский, например, говорил (а может, и мечтал) о тотальной, глобальной, трансконтинентальной, ракетно-ядерной войне.
Кругом были развешаны портреты Ленина, цитаты из его работ. (Еще бы! Уж Ильич-то знал, как разложить армию и население противника...)
Мы все мечтали стать шпионами.
Нам выдавали "секретные" засургученные, с прошитыми и пронумерованными страницами, тетради, в которых мы писали, а потом переводили на английский тексты антиамериканских листовок и радиопередач собственного сочинения. За них выставлялись оценки.
На перекличке, услышав свою фамилию, полагалось громко пролаять: "Ай-ай!". Это было потешно и странно. Позднее выяснилось, что именно таким образом ("I-I!": сдвоенное - ради шума ветра - "Я!") откликаются на линейке моряки американских военно-морских сил, где служил наш доблестный шпион, а солдаты армии США на поверке отзываются совсем иным, более понятным возгласом: "Here!" ("Здесь!"). Пришлось срочно переучиваться.
Восхитительную, почти что киплинговскую строку обнаружили мы в учебнике военного перевода - ласкавшую слух, как ода: "The infiltration is a variation of penetration" ("Просачиванье - вариант прорыва").
И - чеканную дефиницию из боевого устава, которую заучивали наизусть: "The prime aim of infantry in attack is to close the enemy and to destroy or capture him" ("Первейшая цель пехоты в атаке - сблизиться с врагом и уничтожить или пленить его").
Все-таки больше хотелось - пленить, тем более что "infantry" ассоциировалось с эрмитажной принцессой-инфантой, инфантилизмом, детскими играми в "войнушку", а янки были невыразимо симпатичны - с их джазом, джинсами, козлобородым дядей Сэмом, что тыкал пальцем в праздную толпу, с чисто американской чудаковатой прямолинейностью признаваясь: "I want you".
Он меньше всего походил на врага, что бы там ни говорили нам наши наставники - суровые ландскнехты психологической войны.
Лучшую листовку на сборах сочинил студент Минашкин. Она была рассчитана на французских солдат и содержала всего четыре слова: "Кончай трепаться - иди сдаваться!"
Подполковник Ярошевский, правда, сомневался, удастся ли передать красоту подлинника во французском переводе.
Полковник Наживкин приводил по памяти текст немецкой листовки, которая попала к нему в руки в начале войны, - тоже в стихах: "Бей жида-политрука - его морда просит кирпича".
Автор-нацист был, видимо, уверен в том, что его ценности найдут сочувствие у русского солдата.
- Сейчас выпьем чаю с антистоинчиком... - сказал, вытирая пот со лба, немолодой, малиновый от солнца начальник военных сборов.
(У офицеров и солдат было твёрдое убеждение, что во все жидкие виды армейского питания добавляется некое, способствующее половой импотенции, вещество - антистоин.)
Красными и синими карандашами наносили на карту продвижение наших и вражеских войск, ядерные и пропагандистские удары.
- Первый батальон мы разложили, второй разложился сам, - подытожил Жора Газарян.
А Федя Карпов озабоченно завис над картой:
- Как бы нам по ошибке не залистовать свои войска!
Кто-то поставил свой карандаш "на попа".
Вскоре перед каждым солдатом высился остро зачиненный красный карандаш. Хитроумный Лёша Денницкий изловчился установить вертикально и карандаш подполковника, но ненадолго: тот рухнул от колебания стола.
- У подполковника не стоит, - свистящим шёпотом передал по рядам Жора Газарян.
Ярошевский чуть заметно улыбнулся сквозь стрекозиные очки.
(Армия не может не хотеть войны. Представьте себе человека, которому бесконечно показывают порнографические фильмы и журналы, читают лекции о сексе, но к реальной женщине не подпускают. О чём он сможет думать и мечтать?
Кромешный мат в ночных палатках...
Вы видели, как вся армия мастурбирует? Страшное, неумолимое зрелище. А войны всё нет и нет.
Для армии желать войны так же естественно, как для солдата - женщины.
И это - добыча на войне.
Хочет, хочет армия войны, не может не хотеть. Не может.)
- Никогда не обнаруживайте своих флангов раньше времени, - учил нас бронзоволицый, опалённый пустынными ветрами танковый полковник Нариманов. Вспоминал о дерзких диверсиях, провокациях и перевербовках, страшном взрыве в ливанском аэропорту: "Море огня!".
Ночью, во время учений, соседняя, пятая рота решила взять "языка" и заставить его вещать по громкоговорителю на нас, чтобы мы сдавались в плен. Они пробрались в наше расположение и спрятались в кустах.
Старший сержант Сухаренко отошел за эти же самые кусты по нужде, в результате чего на него была наброшена шинель и сам он завернут в неё и несом в довольно быстром темпе и не ведомом для него направлении.
Но лазутчики совершили ошибку, неся нашего помкомвзвода по дороге, на которой им вскоре встретился майор-посредник. Солдаты бросили шинель вместе с бесценным грузом на землю и разбежались.
В сиреневатом лунном свете майор разглядел испуганное лицо старшего сержанта Сухаренко, который истолковал событие по-своему:
- Это наши солдаты из шестой роты хотели меня избить.
В качестве улики и трофея у майора осталась шинель, за которой, естественно, никто не пришёл.
(А избить, вообще-то, хотели...)
Карпов говорил, что если начнётся война, он при первой же возможности сдастся в плен неприятелю и выдаст ему все наши тайны.
Пожилой полковник медицинской службы заявил однажды факультетским девицам, что то, как занимается их группа, его не удовлетворяет.
- Что такое, товарищ полковник, - удивилась Танька Замахова. - Всех удовлетворяем - а вас одного не можем удовлетворить!
Студентки, кто похулиганистей, вычислив загодя, справляли день зачатия вождя, которого для конспирации называли Лукичом (родина прямо-таки забодала всех предстоявшим вековым юбилеем). Студенты посолиднее вели схоластические споры: например: ругался ли Ленин матом? А иные охальники усматривали скрытый сексуальный смысл, полный едкой горечи для импотента в его первую брачную ночь, даже в первой строке "Интернационала".
Абитуриентка Римма на экзамене по английскому доказывала, что её американский "френд" прекрасно ее понимал. Преподаватели, конечно, не стали ей объяснять, что для взаимопонимания с "френдом" знание языка вовсе не необходимо.
Примерно тогда же в Москву приезжал Джон Стейнбек. В первый же вечер он вышел прогуляться по центру. Двое забулдыг у винного магазина пригласили автора "Гроздьев гнева" выпить на троих. Разделив с незнакомцами гранёную горькую чашу, позаимствованную собутыльниками в ближайшем газировочном автомате, бесстрашный классик присел на скамейку в сквере отдохнуть. Не заметил сам, как задремал. Проснулся в полночь - его теребил за плечо милиционер:
- Гражданин, здесь спать не полагается. Ваши документики!
Стейнбек принялся объяснять:
- Я - известный американский писатель...
Начитанный сержант воскликнул:
- О, Хемингуэй! - и восхищённо взял под козырек.
Мечтая о большой литературе, мы помешались на идее "айсберга", решительно выстругивая из своей зелёной прозы задорины метафор и гипербол.
"Айсберг" был, возможно, блефом. Но все кинулись выискивать в сухощавой прозе Хэма невидимые глубины. И вырос миллион айсбергов, сотворённых читателями: каждый вытащил свое.
("Титаник" потонул, напоровшись именно на айсберг.)
В моде были "симпатичнейшие уродцы с перекошенными мозгами".
Хемингуэй писал заметки на салфетках. Лёша Денницкий - на пипифаксе, который, по русской привычке, всегда носил с собой.
Когда на Камчатке, где мы работали практикантами в газете, я объяснил Лёше, что "усталые, но довольные" были штампом ещё в петровских "Ведомостях", он подарил мне свой очерк с надписью: "Спасибо Володе Ерохину, который научил меня так писать". Слово "так" я посоветовал подчеркнуть.
Москвичи на факультете были всё больше дряблые, хлипкие, а приезжие - с волевым напором, яркие индивидуальности - не считая десятка партийно-армейских, невесть как проскочивших по конкурсу, сереньких троечников, которые все, как один, были стукачами.
Когда в армии меня обозвали вшивым интеллигентом, я вначале обиделся, а потом задумался: почему студенты (а дело было в Ворошиловских военных лагерях под Калинином) не только не стыдятся свoeгo низкого происхождения, но даже бравируют им? Вся политика послереволюционных лет была направлена на вытравливание образованных слоёв общества и замену их полуинтеллигенцией в науке, культуре, политике. Да и этим моим однокакашникам как было не гордиться своей неинтеллигентностью: ведь сама система отбора в вузы, куда за уши затаскивали "стажников", набавляя им льготные баллы, показала ориентацию общества не на способности и знания, а на некое состояние готовности быть надёжными исполнителями любого безумия и бесстыдства. Это неизбежно привело к деградации знания, искусства, управления. "Пусть похуже, зато абсолютно свои" - желательно члены (КПСС). Может быть, так раскрылись Ломоносовы, гибнувшие прежде? Сомневаюсь. Способностей от них не требовалось никаких, особенно если вспомнить анекдотический "рабфак". Да и учились они еле-еле, с большой натугой и натяжкой оценок.
Советская власть была для них непререкаемой, незыблемой святыней. Они говорили:
- Вы меня не агитируйте, я и так уже двадцать пять лет за советскую власть!
Или (если кому-то, допустим, не давали квартиру):
- А они потом на советскую власть обижаются.
Вадим Дундадзе говорил, что факультет журналистики - это партийный факультет.
Тем сильнее поразили наши умы, после брутальности военных сборов, мощные и освежающе прозрачные, как Ниагарский водопад, лекции по социологии, которые начал читать нам на четвёртом курсе Юрий Александрович Левада.
(Платон писал, что, знание - это припоминание. Ещё бы: Сократ столько всего наговорил - было что вспомнить.)
Профессор Левада был великолепен - холодновато-спокойный, с сияющими серыми глазами, в серой эйнштейновской куртке, с пальцами, испачканными мелом.
Мне особенно запомнились две его сентенции: "Для того, чтобы думать, надо питаться. Но иногда люди умиряют с голоду за право думать". И: "Совесть - внутренний контролер".
НЕВИДИМЫЙ КОЛЛЕДЖ
Я вначале пожалел, что у меня нет бумаги, а потом вспомнил про исписанный блокнот: обратные стороны листов пригодны для записей. Я сижу и думаю: неужели Эдик Зильберман жил, постигал глубины мудрости Востока и уехал в Америку лишь затем, чтобы умереть там?
Эдик погиб под колёсами машины по дороге в университет, куда он добирался, по обыкновению, на велосипеде. Остались жить его жена и дети. Это случилось однажды осенью в Бостоне.
Что я знал о нём? Очень немногое. Впервые я увидел Эдика за девять лет до его смерти на семинаре у Юрия Александровича Левады. Семинар этот был элитарным интеллектуальным клубом, в духе школы игроков в бисер, существовавшим, впрочем, в рамках вполне официального академического учреждения с красивым названием ИКСИ. Мы тогда все были увлечены романтикой научного поиска и возлагали большие надежды на социальные науки. Не уклонюсь от правды, если скажу, что профессор Левада воспринимался многими как символ и воплощение этих надежд.
Со своей неизменной детской улыбкой он вспоминал факт из "Военно-исторического журнала":
- Гитлер, году этак в 39-м, на совещании высшего германского генералитета, проанализировав политическую ситуацию в Европе и повсюду, заявил: "В мире есть только одна сила, способная сколько-нибудь серьезно повлиять на ход дальнейших события. Эта сила - я". И это была не демагогия, а система аргументации.
Ещё Юрию Александровичу нравился афоризм Мао Цзэдуна: "Наши учителя в отрицательном смысле - Хрущев, Чан Кайши и американский империализм":
- Надо быть циничным на разных уровнях...
Постукивая мелом по доске, фанатично возбужденный Гриша Видзон толковал про Макса Вебера и культуру тробриан.
Толя Тельцов так же истово цитировал Парсонса, как когда-то, наверное, - Маркса.
"Учение Маркса истинно, потому что оно верно", - острил, усаживаясь за полированный стол, Никита Дедов.
Нашими кумирами были Питирим Сорокин, Райт Миллс, Радклифф-Браун и Малиновский, отцами-основателями - Огюст Конт и Эмиль Дюркгейм, пророками - Леви-Брюль и Леви-Стросс, героями - Ортега-и-Гассет, Эрнст Кассирер, Мартин Бубер и Алексис де Токвиль.
Колдовски красивая секретарша Злата в модной по тем временам мини-юбке разливала по чашечкам тягучий кофе, отвинчивала ароматный золотой коньяк.
В моде был структурно-функциональный анализ и системный подход.
Ещё были красивые термины: инцест, инициация, архетип и артефакт. Они вкусно хрустели на зубах.
Я изучал девиантные группы.
Социологи, покуривая в кулуарах, перебрасывались информацией:
- Особенно хорошие библиотеки у тех, кто был близок к ЧК и конфискациям. Есть один книголюб...
- Библиотека Таганской тюрьмы...
- Например, Крыленко...
- Библиотека иностранной литературы - из фондов городов Львов и Ужгород...
Рассказывали, как Иосиф Бродский перед отлётом напевал только что сочинённый им шлягер: "Подам, подам, подам... Подам документы в ОВИР. А там, а там, а там... Будет ждать меня Голда Меир".
Он зяб на холодном ветру, но был настроен весело. Провожающие смахивали слезы.
("А вы знаете, как страшно умирать в освещённой вечером стране?" Мне вспомнился свет разноцветных электрических лампочек сквозь марево тумана вокруг портретов Ленина и Сталина на здании дирекции завода "Ревтруд" на Коммунальной улице в Тамбове.)
Аспирант Левады Эдик (Давид Беньяминович) Зильберман - изящный человек с лицом, словно выточенным из слоновой кости, - спал по четыре часа в сутки и прочитывал за неделю невероятное количество книг и статей. (Левада еще острил, после вспышки холеры в Одессе, - а Эдик был одессит, в прошлом - метеоролог, и только что вернулся с каникул, - что эпидемия на родине Эдика возбудила в нём холерический темперамент.)
Помню доклад Зильбермана о каббале и Адаме Кадмоне (всечеловеке - средоточии мира). Он вскользь упоминал о том, что губернаторы провинций в древнем Китае были обязаны писать стихи - хороший поэт считался хорошим правителем (и наоборот).
Эдик рассказывал, что в индийской культуре время не течёт линеарно, как у нас, а идёт (или, вернее, располагается) по кругу. С ходу переводил с санскрита на диктофон древний текст про утробу Татхагаты (всерождающее лоно - источник бытия).
Библиография к его двухтомной диссертации по типологии культур содержала четырёхзначные числа названий на четырёх современных языках - а он знал ещё и четыре древних языка.
Зильберман занимался раджа-йогой и, как говорили ребята, "заводился через познание". Он исповедовал адвайта-веданту и, в соответствии с этой традицией, был убежден в том, что его самого - нет.
Последнее обстоятельство не помешало Эдику составить для меня в течение пяти минут в стоячей забегаловке под рестораном "Прага", где мы с ним ели жареные чешские сардельки с горчицей, проект построения метасоциологии - в аподиктической, гипотетической и деонтической модальности - с использованием излюбленной им триады: "нормы - ценности - идеи" - школьной шариковой ручкой на клочке салфетки.
Мне нравилось его рассуждение о тернарной оппозиции (по типу: чёрное - белое - красное), которое выводило за предел бинарности и давало плоскости объём.
Сенсацией стал доклад Мамардашвили и Пятигорского о метатеории сознания. Они откопали где-то, перевели на русский язык и осмыслили древнеиндийский трактат "Виджняна вада", где говорилось о том, как построить теорию сознания.
Народу набилась уйма. Минут сорок не начинали - ждали Пятигорского. Серьезный, как шахматная ладья, Мамардашвили высказал предположение, что его соавтор заблудился. Все отдали должное остроумию Мераба Константиновича, но когда Александр Моисеевич, наконец, появился в зале, он первым делом сказал хозяину семинара:
- Юра, ты извини - я забыл, где находится ваш институт...
Сознание в "Виджняна ваде" выглядело как лес с движущимися в нем деревьями, которые иногда набредают и на нас. (Примерно как мы говорим: "мне в голову пришла мысль" - именно пришла - а не "я подумал".)
- Люди настолько глупы, - говорил Пятигорский, - что думают, что они могут подумать о чём угодно.
- Эта теория очень старая, - бросил реплику кто-то из зала.
И получил оплаченный ответ:
- Она не старая. Она - древняя...
Левада в перерыве сказал Мамардашвили:
- Мераб, по-моему, Сашка тебя съел, переварил и разбавил всё это индийской философией.
Но тот заверил собеседника, что древний текст был настоящий.
Кряжистый добряк с медвежьеватой выправкой бомбардира (он и в самом деле служил когда-то в артиллерии) - Володя Лефевр занимался рефлексивными играми и изучал конфликтующие структуры. Он изобрёл электронные машины - дриблинг и гитик, - не умевшие проигрывать никому. У него были очень интересные идеи: например, конфликтующие структуры, паразитирующие на одном и том же материале. А суть рефлексивных игр заключалась в способности "передумать" противника: "я думаю, что ты думаешь, что я думаю..." - и так далее, до бесконечности, как отражения в трельяжных зеркалах. Умение имитировать то, как наш противник имитирует наш ход мыслей, давало немалый шанс к победе и могло найти довольно занятное применение в экономике, политике и военном деле - да и, наверное, нашло - но уже потом, когда Владимир Александрович эмигрировал в Америку.
"Можно написать роман, - говорил мне Лефевр, - где время будет идти вот так", - и он изображал в воздухе нечто вроде ленты Мёбиуса или бутыли Клейна - двустороннюю поверхность - то, чем был увлечен ещё Флоренский, написавший "Мнимости в геометрии". Ещё он рассказывал об эффекте Эдипа - превращении опасения в явь: с нами случается именно то, чего мы более всего боимся и всеми силами стараемся избежать.
...Мы входили в патриархальный барский двор старой Академии наук на Ленинском проспекте, сворачивали налево к флигелю, где в то время размещался ЦЭМИ. Теперь он в небоскрёбе на Профсоюзной, его называют институтом "Ухо" (из-за гигантского мозаичного панно на стене), и там, очевидно, пропускная система. В старом здании тоже был вахтёр - бабушка в вязаном платке, которая к Лефевру пропускала беспрепятственно.
На семинары ходили аккуратно, как на работу, - всем было интересно, хотя и не всё понятно.
Нравилось в науке то, что Шеф может однажды сказать:
- И чтоб до понедельника я вас в лаборатории не видел! И чтоб сегодня же встретил вас в кафе пьяным и не думающим ни о чём!
(Во многом этому способствовала художественная чушь, печатаемая в журнале "Юность".)
Ещё мы слышали о "невидимых колледжах" и некоем научном центре в США, сотрудники которого сами составляют себе график работы, включая и присутственные часы, - иначе говоря, работают по своему собственному свободному расписанию. Это вдохновляло. После "дневной тюрьмы" советских учреждений "невидимый колледж" представал воображению этаким волшебным градом Китежем с тремя библиотечными днями в неделю. Реальностью же в конце концов стали для нас стеклянно-бетонные (почти по четвёртому сну Веры Павловны) стены института с неудобопроизносимым длинносокращённым названием ЦНИПИАСС, куда собрались мы, десять намучившихся сидением по разным скучным конторам искателей истины, а проще говоря - философствующих бездельников, - на первый установочный семинар научно-методологического отдела.
- Когда будем собираться? - не очень уверенно спросил наш свежевыпеченный шеф.
Договорились, что по понедельникам и средам - изучать "Науку логики" и "Феноменологию духа".
(Мой однокурсник спросил как-то Арсения Чанышева на лекции, понимает ли кто-либо из современных философов систему Гегеля адекватно, - на что получил вполне добросовестный и авторитетный ответ:
- Может, и есть какой-нибудь один чудак...)
Юра Будаков читал ночами Гегеля и, не понимая ровно ничего, от отчаянья впадал в запой. Затем снова читал и снова пил - причем уже не "горькую", а "мёртвую". А Коля Сверкун штудировал Канта и получал от этого, как он говорил (с весьма характерным мягким южнорусским акцентом), "неизъяснимое блаженство".
...Крутился диск магнитофона, наматывая, как дерево - кольца лет, - метафизическую рефлексию.
- Постарайся не кончать, - попросила докладчика Аня Пуляева.
- Вредно, - ответил Стас Галилейский, очень довольный своей шуткой.
У него была оригинальная физиономия: треугольная в профиль, ромбовидная анфас...
Собственно рефлексии меня обучал Георгий Петрович Щедровицкий - философ с умным и благородным лицом квалифицированного рабочего.
- Новую мысль выразить легко, - говорил он, - если она есть. Иное дело - когда её нет.
Щедровицкий вёл блистательные сократические диалоги с учениками.
(Пожалуй, Сократ был одной из немногих философских утех в годы запрета всего нематериального. Интересно, как оценивали себя сами марксисты - как венец стихийного, но закономерного саморазвития материи? И как было не материться в стране господства двух материализмов - диалектического и исторического?)
- Кто ясно мыслит, тот ясно излагает, - говаривал Георгий Петрович.
В пылу самого яростного спора он мог сказать:
- Я рассуждаю, может быть, и неправильно, но по-своему логично.
Иногда он парировал доводы оппонента так:
- В чём вы меня упрекаете? В том, что я понимаю это?
Или:
- Возможно, вы и правы - но какое мне до этого дело?
Он считал, что человечество не умеет мыслить и что его можно этому научить. Лично меня, правда, особенно не обнадёживал.
- Сначала вы будете учиться мыслить, - прогнозировал он во время наших вечерних прогулок. - Потом - создавать себе для этого условия. А там - на "мыслить" останется - всего ничего.
Щедровицкий полагал, что гуманизм проистекает из неуважения к человеку, недоверия к нему: людям внушают, что они живут неправильно, не так, как нужно, сами не понимая всей глубины своего несчастья; и навязывают им, иногда и силой, новую, счастливую жизнь, - которая этим людям, может, и даром не нужна.
Не признавал он и никаких авторитетов, говоря:
- Что мне предки? Я сам себе предок.
Друзья дразнили его "Фёдором" - не знаю, почему.
Он презирал ученые советы, предпочитая им лыжные трассы в Серебряном бору.
Щедровицкий не уставал повторять, что человечество не умеет мыслить, и научить его этому считал своей главной задачей.
Помню оброненные им фразы:
- Мне много раз твердили о конце света - а я шёл и работал.
И:
- Вдруг может произойти всё, что угодно, - но, как правило, не происходит.
И еще:
- Ничего не надо делать слишком явно.
Чтобы жить в Москве, нужна была прописка.
- Но ведь факультет журналистики - это факультет отчаянных девиц? - полувопросительно изрёк Георгий Петрович, выковыривая ложечкой мякоть из помидора.
За Щедровицким тянулась, не знаю, заслуженная ли им, слава хорошего любаря.
В студенческие годы он изучал "Капитал" и, не понимая в нём ничего, стал переписывать от руки и переписал его весь - полностью. После чего заинтересовался вопросом: а кто из отечественных марксистов вообще сам читал Карла Маркса? И выяснил, сопоставляя ссылки, конспекты и частные письма, что последним его действительно добросовестно прочёл Плеханов. Все же прочие авторы пользовались компиляциями, критическими статьями и обзорами своих предшественников - включая Ленина, Троцкого, Сталина, Бухарина, - которые переписывали одни и те же цитаты друг у друга, а восходили всё к тому же Георгию Валентиновичу, а вовсе не к Карлу Генриховичу, чьи сочинения в изобилии пылились во всех библиотеках, но прочитать их не хватило духу ни у кого.
(Известно было и то, что всемирный учитель диалектики "Георгий Фёдорович" Гегель написал свои лучшие сочинения под пиво: содержательный анализ текстов, проделанный специалистами-наркологами, показал весьма характерные признаки отравления синильной кислотой, выделяемой при неумеренном потреблении хмельного. Поэтому и понять Гегеля можно было только под пиво - желательно тёмное, а лучше всего - баварское.)
Был у Щедровицкого трогательно преданный ему друг Володя Костеловский - рослый худощавый человек в лоснящемся пиджаке - "совопросник века сего", аккуратно посещавший все дискуссии. У него была своя история.
Осенью 45-го года воинская часть, в которой Володя служил, стояла в Болгарии, напротив Турции. Костеловский готовился поступать на философский факультет и поэтому изучал знаменитую четвертую главу "Краткого курса истории ВКП(б)", содержавшую в сжатом виде всю философию марксизма. А поскольку понять там было ничего нельзя, он заучивал её наизусть. Кто-то стукнул политруку.
Тот сперва не поверил, что солдат читает "Краткий курс", но всё-таки вызвал к себе рядового Костеловского и лично убедился в том, что тот цитирует четвёртую главу на память.
Володю уволили из армии со следующей характеристикой: "Заучивал секретные сведения с целью передачи их врагу".
(Резон в этой формулировке был, потому что, овладев марксистским методом, враг мог обрести неслыханную боеспособность.)
Впрочем, формула политрука не помешала Костеловскому, по возвращении в Москву, поступить в университет на философский.
Однажды некий ортодоксальный марксист прочитал вслух маловразумительный для него фрагмент из диссертации неокантианца и задал публике риторический вопрос:
- Это как же прикажете понимать?
И вдруг услышал с галёрки звонкий голос студента Костеловского:
- А вот так и понимать - как там написано...
В кружке Щедровицкого Костеловский славился тем, что умел задавать гениальные вопросы, иных раздражавшие своей простотой.
Когда он, наконец, защитился, официальный оппонент "Васька" (Василий Васильевич) Давыдов - директор Института психологии - на банкете, приходившем в крохотной квартирке Щедровицкого, поднявши стопку водки, произнёс замечательное резюме:
- Ладно, Володька, хрен с ней - с твоей диссертацией! Главное - что парень ты хороший.
Фотограф Костя в студии дизайна всё возмущался ленинским субботником: бессмысленно вызвали людей, дел всё равно никаких...
- Видите ли, Костя, - наставительно сказал Щедровицкий, вскапывая вилами газон, - людей наказывают не за то, что они не работают, а за то, что они не играют.
А на реплику Эдика Зильбермана о каком-то логическом парадоксе - что "это так же невозможно, как родить ребенка от двоих", - рассудительно ответил:
- У нас на факультете бывало - и от большего числа...
Виталику Воеводину, который измучился с утверждением своего научного проекта в муторных советских инстанциях, Георгий Петрович, выслушав все перипетии дела и хорошенько поразмыслив, предложил:
- А вы пошлите их всех - на хрен!
И когда тот пролепетал, что посылал уже, и не раз, он ясно и строго заметил:
- Виталик! На хрен посылают один раз.
Александр Александрович Зиновьев всегда ходил точно по середине тротуара. На мой вопрос, не считает ли автор "Комплексной логики" себя стеклянным, Щедровицкий, хорошо с ним знакомый, пояснил, что, если идти близко к домам, кирпич на голову упадёт, а если у обочины - машина может сбить, а Зиновьев полагает свою жизнь слишком большой ценностью для человечества, чтобы вот так вот глупо погибнуть.
(Эти слова я вспоминал потом, когда Эдик Зильберман попал в Америке под машину).
Учеников и последователей у Александра Александровича не было, так как понять его комплексную логику не удавалось никому, но это его не смущало: он рассчитывал на признание лет этак через двести-триста.
До войны Зиновьев возглавлял философский кружок в Московском университете. Прослышав о своём скором аресте, метнулся на Дальний Восток, где выучился на летчика. В войну летал бомбить Берлин. Его сбили, он выбросился с парашютом и пешком добрался до своих. Самолёт Зиновьеву уже не доверили, он довоевал в пехоте, так и вошел в Берлин, а потом заново поступил в Москве на философский (старые страсти улеглись, его успели позабыть).
В новом зиновьевском кружке занимались будущие звёзды русской философии, основатели школ. И уж никто не ожидал, что заумный, закопавшийся в логических формулах, слывший за городского сумасшедшего Зиновьев уедет на Запад и выпустит там злые, убийственные по сарказму политические памфлеты.
Профессор Корытов говорил, что для того, чтобы стать начальником в Советском Союзе, надо иметь отталкивающую внешность:
- Квазимодо сделал бы у нас блестящую карьеру. Ну, а уж когда внешнее уродство соединяется с внутренним...
Для описания открывающихся в подобном случае перспектив Валерий Яковлевич просто не находил слов, хотя и знал их в великом множестве. Так, например, когда однажды он спросил у меня, куда я исчез на целых две недели, и я ответил, употребив журналистский жаргон, что мне надо было выписаться, Корытов глубокомысленно заметил:
- Выписываться надо обязательно. Если этого не делать, может начаться страшная болезнь - воспаление мочевого пузыря.
Колоритнейшей фигурой был ещё один мой учитель - Борис Андреевич Грушин - бородатый, орлиноглазый, резкий в движениях и безрассудно смелый человек.
...Когда-то Грушин прочитал фразу: "Мнения правят миром", - которая ему очень понравилась и запомнилась на всю жизнь. Если бы в кратком словаре крылатых латинских изречений, откуда он, как мне тогда казалось, черпал большинство своих идей, содержалась другая сентенция: "Любовь и голод правят миром", - он, возможно, стал бы изучать любовь (как Фрейд) или голод (как Сорокин). Но судьба распорядилась иначе: Борис Андреевич сделался исследователем мнений. Он возглавил Институт общественного мнения при "Комсомольской правде" и написал книгу "Мнения о мире и мир мнений".
Грушин рассказывал, как однажды он выступал перед слушателями Военно-политической академии. Ему задали вопрос: что он думает о газете "Советская Россия" (в то время только начавшей выходить)? Борис Андреевич честно ответил, что не думает ничего. Тогда на него прислали донос: что он пришел на лекцию небритый, пьяный и призывал не подписываться на "Правду".
(Как-то на семинаре в МГУ, прохаживаясь по тёмно-вишнёвому паркету туристскими ботинками на каучуковых шипах, профессор Грушин, метнув в аудиторию острый задумчивый взгляд, закончил тему так:
- И на вас - вся надёжа.
И в том, как была выговорена эта мысль, и что значило - не проникнуться ею, - были сжаты в болезненный ком: расстрелы, проволока лагерей; нагие дети, уснувшие на снегу; и русские крестьяне с их деревнями разорёнными.)
В дни нашего с ним сотрудничества Грушин напечатал в "Вопросах философии" прогремевшую на всю страну статью, где доказывал, что общественное бытие определяется общественным сознанием, а никак не наоборот. Это была сенсация, вверх дном опрокинувшая все постулаты марксизма. Вскоре нас раздолбали в пух и прах.
Спасибо вам, книги, купленные в ленинградском "буке" на улице Чайковского: "Социология Конта в изложении Риголажа", "Наука об общественной жизни" К.М. Тахтарёва, "Общая социология" Г. Шершеневича... Я таскал вас с собою в портфеле и изучал. Вы утешали меня, я знал, где есть мои "свои". Простите, что я снёс вас московским букинистам, - каждая стоила примерно семь рублей и дала мне продержаться пять-семь дней. Я без сожаления расстался с вами, отождествившись с вашим содержанием, - не буквально, а по сути выраженных в нём идей.
А в отделе кадров Института социологии обо мне пошла дурная слава - как об авторе антисоветских работ...
- Живём как в фотографии: сидим и ждём, когда снимут, - деловито сообщил мне Грушин, раскуривая непослушную трубку.
- Флаг не спускаем, идём ко дну, - шутил Левада на институтской лестнице, неумело держа двумя пальцами дешевую злую сигарету.
...Когда Леваду лишили звания профессора, это было смехотворной пакостью - не перестал же он быть ученым своего масштаба в результате этого.
Помню обсуждение его книги "Лекции по социологии" в большом зале Академии общественных наук при ЦК КПСС. Затеяли его твердокаменные марксисты, имея целью покончить с рассадником буржуазных идей. Больше всех усердствовали Сергей Иванович Попов с окаменевшей серно-свинцовой маской злодея вместо лица и бритоголовый, налитый кровью Цолак Александрович Степанян, которому для полноты образа не хватало только окровавленного фартука и топора. Но и другие не подкачали... Впрочем, надо ли вспоминать их имена, которых не вспомнит никто и никогда? Накинулись стаей и вцепились - кто в горло, кто...
Друзья опального социолога пытались его отбить. Блистательно и резко выступил Грушин (как едко заметил кто-то из советских обществоведов, "сорвал аплодисменты"). Он, в частности, заявил:
- Вокруг нас свистят пули... Можно идти по пути, проложенному Марксом и Энгельсом. Можно на нем стоять. - (Это был выпад против тех, кто с пафосом заявлял, что стоит и будет стоять на позициях марксизма.)- А можно лежать на этом пути, мешая поступательному движению и развитию... Даже если уничтожить на поле всех сусликов, хлеб сам не вырастет. А здесь мы имеем дело не с уничтожением сусликов, а с уничтожением хлеборобов!
(В открытую выступить против марксизма в тот год означало прямую дорогу в тюрьму - отсюда заёмная, как бы внутренняя позиция...)
Утонченно-элегантный социальный психолог Игорь Семенович Кон, который работал в Москве, а жил в Ленинграде (неизменно добродушно прибавляя к этому обстоятельству: "чего и вам желаю") пытался свести все к спору о словах.
- Если я начну сейчас употреблять такие термины, как "социальная стратификация", "ценностные ориентации", "референтная группа", "культурная динамика", - разъяснял он с не нужной здесь никому университетской обстоятельностью, - меня объявят буржуазным социологом. А если стану говорить: "общественный прогресс", "экономические интересы", "революционная ситуация", "классовая борьба", - скажут, что это свой человек.
Сидевший за моей спиной марксист, оглянувшись кругом, негромко заметил:
- Они все тут собрались.
- Да, - подтвердил его сосед. - Как говорил Маяковский, "тюрьма и ссылка по вас плачет"...
Ни логика, ни стройность аргументации не играли здесь никакой роли, потому что оппонентами Левады были дубы сталинской посадки, за которыми стоял гигантский, давно и четко отработанный репрессивный механизм тоталитарного государства с танками и ракетами, а на его стороне - лишь кучка лохматых, бородатых, очкастых, подозрительно носатых интеллигентов в драных джинсах и линялых свитерах, готовых разбежаться при первом выстреле.
Поздним вечером после обсуждения:
- Ребята, Леваду надо упить.
- Теперь только во Внуково.
- Или к цыганам...
Но он вышел - сутуловато-громоздкий, серебряноволосый, с медальным профилем легата, - невозмутимо улыбаясь, как всегда.
Весть о разгроме социологии разлетелась по Москве.
- Самое мягкое из того, что там было сказано, - что Левада написал беспартийную книгу, - грустно поведал мне уже из третьих рук мой шеф в "Литературной газете" Виктор Трофимович Алмазов. (Добрый человек, он старался своими большими статьями исправить маленькие недостатки советского общества.)
Позитивистская социология с её понятийным аппаратом и системной методологией - это, так сказать, домашняя, наша внутренняя история, в которую вмешались и танки в Чехословакии, и разгром Левады.
Налицо было столкновение марксизма с позитивизмом.
О марксистской психологии я ничего не слышал, но фактически существовал некий смутный её вариант, основанный на павловском рефлексо-физиологизме. Говорили о материалистической психологии, которая пришла в столкновение с психоанализом.
"Учение" Маркса, ориентированное на своекорыстные экономические интересы профессионально-житейских групп (которые, по аналогии с биологией, он назвал "классами"), сводило человека к животному. Только голод был возвышен до "материальных потребностей".
В Институте социологии сотрудники поначалу, насколько я мог заметить, делились на две категории: одни пили за обедом кофе, другие - пиво. После кадровых перетрясок, последовавших за разгромом, из прежних социологов остались только те, что пили пиво.
А в основном пришли новые ученые - отставные подполковники.
Пущенное кем-то из них в ход выражение: "Исторический материализм - вот лучшая социология" - уже тогда напоминало мне поговорку: "Лучшая рыба - это колбаса", - которая со временем, когда исчезла рыба, а за ней и колбаса, полностью утратила смысл. Социология исчезла несколькими годами раньше.
С исчезновением колбасы и мяса утратили свой смысл и диссиденты - всем все стало ясно и без них. Стало ясно и то, что даже если исчезнет хлеб, народ не взбунтуется.
Именно исчезновение хлеба в годы первой мировой войны привело к революции. Народ требовал мира и хлеба. В годы второй мировой войны он не требовал уже ничего.
И была еще жабообразная крашеная баба - что-то вроде Надежды Михайловны (фамилии у них бывают обычно никакие, так что и запомнить нельзя, да и ни к чему), которая служила сперва в секторе Грушина в ИКСИ, а потом в первом отделе ЦНИПИАССа.
В дни своей молодости, в войну, она выселяла немцев из Кёнигсберга.
"И родина щедро поила меня берёзовым соком, берёзовым соком", - пели, обнявшись, братья из ЦНИПИАССа. Они были спортсмены, комсомольцы, охотно ходили в походы.
"Мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России". Они были верными сынами оккупационных войск.
("- Постой! Постой! Ты комсомолец? - Да! - Давай не расставаться никогда!". Мой приятель-социолог говорил, что в этой песне есть латентный гомосексуализм: когда густой бас спрашивает, а тенорок ему отвечает - и они вместе заканчивают: "На белом свете парня лучше нет, чем комсомол семидесятых лет!")
- Березовый сок? Дерьмо! - сказала продавщица. - И кто его только берет?
- Кругом обман.
Но братья, видно, присасывались прямо к березам, делая на них болезненные надрезы, напивались по глотки, пока не набрякали яйца под тяжестью мочевых пузырей, и уходили в кусты отливать и отплевываться, отрыгивать и пердеть, а березы сохли, подымая к небесам обугленные ветки: "Так плачут березы, так плачут березы...".
Да, родина щедро поила и кормила, учила и одевала, давала квартиры и путевки, отпускала в загранкомандировки, требуя взамен одно - живую душу, растя, за отрядом отряд, поколение душителей.
Страна глупела на глазах: не нужные никому, уезжали, умирали, уходили в тень ее лучшие умы.
...Брахман, погруженный в созерцание, пристроившись у краешка заваленного книгами и рефератами стола, быстро писал что-то авторучкой на санскрите, попыхивая трубкой, к которой пристрастился в последний год перед отъездом в Англию. Это был Александр Пятигорский.
Его жена, оставшаяся в Москве, пела на левом клиросе церкви Ивана Воина, что на Якиманке. Ее уговаривали перейти на правый клирос, где платят больше, а поют только по праздникам, но она не соглашалась: на левом можно петь и утром и вечером - каждый день, давя тоску.
СВЕТ НЕЗРИМЫЙ
Ты знаешь, как дорог мне
Улиткой свернувшийся город
И горы его Воробьёвы...
Золотым сиянием окрылена Москва - золотое на голубом. Она вся - словно икона Божьей Матери в киоте вод и лесов.
Ленинские горы дают особую точку зрения. Они окрыляют душу, вознося ее метафизикой Москвы - города, не утратившего святости своей даже в антихристово время.
Нет, покидать Москву нельзя. Здесь - центр мира, его метафизическое зерно. Здесь и быть свершению времен.
БОЛЬШОЙ СВИНГ
Гонениям на левую интеллигенцию парадоксально радовался Георгий Петрович Щедровицкий.
- Жизнь пижонов учит, - саркастически констатировал он. И прибавлял уже сардонически:- Хотя другие говорят, что она их ничему не учит.
У Щедровицкого была коронная фраза: "Я не озабочен гармонией мира", - вызывавшая бешеную реакцию у потрясенных его цинизмом московских философов. Один из либеральных мыслителей назвал ГП фашистом за его идеи социальной инженерии, управления и контроля. Доходило и до забавных коллизий.
В начале шестидесятых обществовед-марксист новой волны в конференц-зале Института философии атаковал Сталина (после хрущевских разоблачений это стало не только возможным, но и, в некотором смысле, необходимымым для философского истеблишмента делом). Щедровицкий, находившийся в вечной опале, наклонился к соседу и негромко, но отчетливо сказал:
- Собака мертвого льва ругает.
Эти слова услышал сидевший сзади него скрытый сталинист и немедленно взял Георгия Петровича к себе на работу.
Щедровицкий утверждал и доказывал, что свободная мысль легче всего развивается в условиях террористических диктатур.
Он часто употреблял едкое с точки зрения философических кругов выражение "Юра Левада и левая интеллигенция", хлестко прохаживаясь по сановным амбициям его неразумных коллег.
- Вот возьмите, к примеру, наших социологов, - желчно повествовал, меряя Арбат длинными ногами в обтрепанных индийских джинсах мой приятель и наставник. - Они создали для себя институт - ИКСИ - чтобы мыслить. И что они сделали затем? Начали писать друг на друга "телеги" и ставить друг другу подножки: кто будет директором, кто замдиректором, кто - первым член-корреспондентом. И они допрыгались...
У Щедровицкого дома был обыск, когда забрали мою пишущую машинку. (Я потом ездил на Лубянку ее выручать.)
...Голый по пояс, Георгий Петрович впустил меня в квартиру; затем снял валенки и джинсы и, блеснув всеми фибрами, нырнул под одеяло.
- У меня был обыск - всю ночь, - сказал Щедровицкий, нервно зевнув. - Закройте форточку, - попросил он, а затем продолжил: - Они ушли в восемь утра и унесли все магнитофонные ленты и обе пишущие машинки. И, что самое печальное, - все телефонные книжки.
Я рассказал ему, в свою очередь, что вчера вечером приезжали и на работу - в студию дизайна; все обшарили, но ничего крамольного не нашли - только у фотографа Кости в фотолаборатории обнаружили порнографию.
А пишущую машинку свою я выручал так.
Полгода её продержали в КГБ и отдавать, кажется, не собирались. А мне надо было на ней работать (я и к Щедровицкому-то её принес только на один день - чтобы помочь ему быстренько расшифровать с магнитофона какой-то его доклад, - да в день не уложились - вот и остался мой "Консул" ночевать у опального философа, - став наутро лубянским пленником).
Георгий Петрович, поразмыслив, дал мне телефон главного следователя - кажется, полковника Сорокина, - который вёл его дело (точнее, как я понял из составленного на меня протокола, - о котором речь впереди - дело его университетского однокурсника: Щедровицкий проходил у них пока что как свидетель), и посоветовал прямо с них и требовать свою собственность.
К тому времени я трудился уже не в студии дизайна, а в организации с гремучим названием: "прам-трам-трам", а говоря точнее, - Управление Моспромтранс Главмосавтотранса; ввиду переменчивости жизни у меня выработался не японский, а, скорее, американский стереотип подхода к фирме - как-то не получалось надолго в кресло врастать; и сам собой сложился опыт - многообразный и пестрый, чаще всего отрицательный (если не считать ту работу, которую я выполняю и по сей день, - в школе для нервнобольных детей).
Было в тот год такое поветрие - чтобы повсюду появились планы социального развития, и под это дело по всей Москве искали заводских социологов (а никто их в ту пору официально не готовил - все учились, где придется), давали этим экзотическим специалистам в общем-то символическую, но по местным условиям вполне сносную инженерскую зарплату и заставляли сидеть, как каких-нибудь павлинов, в конторе от сих до сих, чтобы можно было при случае доложить министру или начальнику главка: у нас на предприятии социология есть! (А если нет - так и три шкуры с директора могли спустить.)
Мне это напоминает ситуацию в Соединенных Штатах после великой депрессии, когда в расправившей плечи стране в моду вошли биг-бэнды. И вот энергичные импресарио стали разыскивать по всей.Америке забытых публикой, перебивавшихся мытьем посуды старых джазменов, вставлять им зубы, покупать инструменты и сажать в самые респектабельные оркестры Чикаго и Нью-Йорка: эра Вуди Германа, Каунта Бейси и Дюка Эллингтона (большой свинг).
Дел не было никаких, в библиотеку не пускали (библиотека была не блажью, а производственной необходимостью: это сейчас любые книжки переводятся да продаются, а в начале семидесятых мы читали, можно сказать, исключительно американскую литературу, которая обреталась вся в научных фондах, а зачастую и в спецхране, куда к тому же еще не каждый мог попасть).
Мой начальник по фамилии Дубровский, когда я вякнул что-то насчет библиотечного дня, вяло постучал пальцами по столу и философически произнес:
- Банный день... Библиотечный день... Нет уж, сиди лучше здесь.
Я и сидел, изнывая от безделья, - как, впрочем, и все управленцы во главе с добродушным начальником.
Иногда, правда, выезжал на автобазы - проведать своих приятелей, которых, кого смог, распихал по подведомственным мне шарашкам (от меня требовали набрать штат - я и набрал: киноведов, психоаналитиков, поэтов...). '
Зина Метнер жаловалась: ей дали каморку, общую с отдыхающими от рейсов шоферами. Как-то ее вызвал к себе директор. Она оставила на столе раскрытую книгу - кажется, "Эстетику" Гегеля. Возвращается и застает следующую картину. Вокруг Гегеля рядком сидят водители, забросив костяшки домино. Один зачитывает фразу вслух, а остальные валятся под лавки от хохота.
Другого моего коллегу - по фамилии Шапиро - директор автобазы пригласил в свой кабинет и конфиденциально попросил:
- Моисей Израилевич, у меня есть пять минут свободного времени. Скажите мне - только честно: что такое эта ваша социология?
От нас ждали, как я уже сказал, планов социального развития коллектива: сколько будет женщин и мужчин, лиц со средним образованием, плавательных бассейнов и детских садов на данном заводе или в отрасли (в зависимости от уровня системы) через десять лет. Написать можно было все что угодно - никто этих планов все равно не читал; но полагалось, чтобы планы были - их требовал Совмин.
Довольно ловкий и оборотистый сотрудник Плехановского института Аристарх Платонович Обдунин, смекнув, в чем дело, враз сделался специалистом по составлению таких бумажек. С трафареткой (по типу тех, которыми Маяковский множил, а потом раскрашивал свои плакаты РОСТА) он разъезжал по Северу и всюду мигом ублажал умаянное Москвой начальство, вставляя в готовенький план наспех подсунутые ему на местах или просто взятые с потолка цифры, - за что и получал, конечно, по-северному. Да еще завел в тех приполярных вотчинах красавицу-вдову и похвалялся, что приезжает к ней, как к себе домой.
Обдунин сумел между делом написать и даже, кажется, защитить диссертацию: "Материальные стимулы как моральный фактор".
...Помню, когда ужесточили режим в ЦНИПИАССе, я детально изучил, сидя там, "Метафизику" Аристотеля, а заодно и "Физику".
Юра Будаков от отчаянья повесил на спинку стула старый пиджак и исчез, создав эффект присутствия.
Полгода никто ни о чем не догадывался, пока не взбунтовалась бухгалтерия: он не являлся даже за зарплатой.
Коля Сверкун возложил на свой стол клеенчатый портфель и был таков. На его беду, директор Гусаков, зайдя через несколько недель в отдел науки и заподозрив неладное, засунул руку в сей подозрительный предмет и вдруг, побелев от изумления и гнева, вновь узрел ее - свою родимую властвующую руку: портфель оказался мало того что пустым - в нем не было дна...
Естественно, нас всех через четыре месяца сократили, тем более, что научно-технический отчет, представленный всеми тремя группами нашего отдела в конце года, содержал всякую блажь - от неокантианства до китайской философии - и явно не имел ни малейшего отношения к проектированию автоматизированных систем в строительстве.
Мне рассказывали еще более интересные вещи о всяких "почтовых ящиках", где люди летом день-деньской загорали на крыше. Но это, собственно говоря, по производственной полезности мало чем отличалось от вязания чулок, выпуска стенгазет или разгадывания кроссвордов, за которые никто никого никогда в жизни не упрекнул. У нас в ЦНИПИАССе, в соседнем отделе, работал мужик с одутловатым и бледным лицом, который постоянно, с утра до вечера, курил, стоя на лестнице, - и ничего. Ему бы, пожалуй, и молоко могли давать за вредность - если бы подобное пришло кому-нибудь в голову.
Так вот, если вернуться к Моспромтрансу и к тому, как я вызволял с Лубянки свою пишущую машинку: часов в шесть вечера, выйдя с любимой работы, я из ближайшего же автомата позвонил по продиктованному мне Щедровицким телефону (не такой же я олух, чтобы в присутствии сослуживцев звонить в КГБ). Полковник Сорокин не сразу сообразил, о чём идет речь, а потом дал мне другой телефон - старшего лейтенанта, чья фамилия за давностью лет вылетела у меня из головы - да, надо сказать, и внешность. (Мне кажется, это вообще профессиональное и, возможно, специально вырабатываемое чекистами отличительное свойство - сливаться с массами.) Тот предложил зайти в любое время. Договорились на завтра.
Я отпросился у Дубровского вроде как к зубному и отправился на Малую Лубянку - рядом с костелом, в зелено-белый барский особняк, где помещалось московское управление сией прославленной в детективной литературе организации. Захожу, звоню по местному аппарату - мне выписали пропуск. Нашел нужную комнату - там сидят двое: один - похоже, выходец из Средней Азии, другой - тот самый старший лейтенант с неприметным среднерусским лицом. Окно, глядящее во двор, по жаре распахнуто настежь, а на столе - моя пишущая машинка. Обрадовался я, поблагодарил дядей-чекистов за честность и принялся было укладывать свое громоздкое стило в футляр. А они говорят:
- Нет, вы погодите. Как это мы вам машинку отдадим? А вдруг - не ваша?
- Да как же, - говорю, - не моя? Моя это.
- Ну тогда садитесь и рассказывайте, где, когда и при каких обстоятельствах ее приобрели.
Тут и рассказывать нечего, обстоятельства простые: на Камчатке, студентом, когда на практике был, заработал сто рублей, тридцать отец добавил - вот и купил в ГУМе. А потом еще за тридцатник мне в мастерской переделали клопиный шрифт на большой, по издательскому стандарту.
Записали они номер, велели все буквы на их бумажке отпечатать - чтоб им осталось на память. Отщелкал - а сам думаю: так ведь если я какую крамолу задумаю на своем "Консуле" размножать - мне тот же мастер за шесть "синеньких" все буквы заново перепаяет.
А чекисты тем временем меня просвещают: что не только литеры сами по себе, но и то, как они искривлены, и с какой силой каждая по бумаге бьет - все это у всех машинок разное, как почерк у людей. Вот почему любую машинку можно по отпечатку узнать.
Потом стали расспрашивать, как моя машинка к Щедровицкому домой попала. Я им объяснил, что мой научный руководитель (тут я явно перехватил, потому что моим научным руководителем ГП никогда не был, а просто иногда дружески консультировал меня) - что мой научный руководитель мыслит вслух, как Сократ, а потом кто-нибудь переносит его мысли с магнитофона на бумагу. Они подивились и спросили:
- А не высказывал ли когда-нибудь ваш научный руководитель антисоветских взглядов?
- Нет, - говорю, - не высказывал. И сомневаюсь, что у него вообще есть какие-нибудь взгляды, кроме научных.
- А почему вы именно его избрали своим наставником?
- Потому и избрал - что он ученый высочайшего класса, уникальный специалист в области содержательно-генетической логики и теории деятельности, глава московской логической школы.
Почесал чекист в затылке и сел писать протокол.
Подает мне, я прочитал - мама родная! - в каждом слове по ошибке, а уж термины все перевраны до неузнаваемости.
Я говорю:
- И вы хотите, чтобы я это подписал? Это же галиматья какая-то! Да Щедровицкий прочтёт - я от стыда сгорю.
- А как же быть?
- Ладно, давайте я сам напишу - на своей же машинке.
Они обрадовались, а потом загрустили:
- У нас через пять минут перерыв начнется, а из-за вас мы можем остаться без обеда.
- Так пообедаем вместе!
Они окно плотно затворили, застегнули шпингалеты, бумажки все в сейф попрятали, и отправились мы в чекистскую столовую. Зашел я руки помыть - земляк Аль-Фараби рядом стоял, глаз не спускал - чтоб я ненароком еще куда не забрел.
Кормят у них в столовой, надо сказать, хорошо - борщ украинский, свежие огурцы, рыба, картошка жареная, компот. И недорого.
За едой разговорились. Я про свою работу рассказал - что на транспорте сейчас горячая пора. И нелегко создать благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе. Они говорят:
- У нас тоже работы - вагон. Еле поспеваем...
Вернулись снова в кабинет. Сижу я, щелкаю на "Консуле" нехитрую его биографию, и тут ещё какой-то мужик заходит - постарше, в такой же, как и все, летней распашонке. Мои двое вскочили с мест и вытянулись в струнку, а я продолжаю печатать. Он посмотрел на меня удивленно и говорит с лёгкой укоризной:
- Молодой человек! Вам, как будущему чекисту, надо бы знать, что полагается вставать, когда входит начальник.
- Виноват! - гаркаю, как на военной кафедре, и тоже вытягиваюсь во фрунт.
Моей выправкой он остался доволен. Поздоровался за руку, представился:
- Полковник Сорокин.
Хотел было он ещё что-то о себе рассказать, да один из старожилов его опередил:
- Товарищ полковник, это не практикант. Это свидетель.
(Вновь прибывший оказался тем самым начальником, которому я накануне звонил.)
Прочитал полковник протокол и на прощанье посоветовал:
- Вы свою машинку больше никому не давайте. А то попадет к кому-нибудь похуже Щедровицкого.
- Это значит - к любому человеку, - ответил я вполне логично. - Для меня лучше Щедровицкого никого нет.
Дали мне чекисты справку (вернее, повестку - задним числом): что я пробыл у них в конторе столько-то часов - для оправдания моего отсутствия на работе.
Я её, конечно, никому показывать не стал, а повесил у себя дома на стенку.
Лето в тот год выдалось знойное, сухое; горели торфяные болота.
Так и висела эта бумажка на солнце - пока не истлела и не рассыпалась в прах.
СУДНЫЙ ДЕНЬ
Как-то после одной из моих - в то время знаменитых - лекций по социологии юные журналисты зазвали меня в синагогу - посмотреть еврейский праздник "Иом кипур" ("Судный день"). Я согласился, и мы пошли. Идти-то было всего двадцать минут от старого Университета.
Завечерело. Пошел ранний, нежданный снег. На улице Архипова (почти как в старинной блатной песне: "в темном переулке возле синагоги") толпились люди, причем толпились они как-то странно, то есть по-разному: одни - обступив чернеющими на снегу фигурами здание синагоги с его прямоугольными колоннами - всех возрастов, обоего пола, с характерной внешностью семитов, а другие - чуть поодаль, в основном на другой стороне узкой улицы, плотно сбитой ватагой - причем возраста исключительно призывного, а пола мужескаго. Вглядевшись в ватажные лица, я мгновенно понял: "Стукачи!": у нас в МГУ довольно отчетливая социальная и даже, пожалуй, биологическая прослойка. Из них, например, поголовно состоял весь юридический факультет. А на других факультетах они жили по возможности малозаметно и регулярно докладывали партийному и гэбэшному начальству обо всем сколько-нибудь существенном в делах и мыслях современников. (Зачем? А чтоб правду знали.)
Я сразу узнаю стукачей: они, как струпьями, обсыпаны пятиконечными звёздами. И глаза все в рыжих звёздах.
(За это время выросли новые ублюдки - черные, крутые, как тараканы, живущие в телефонных аппаратах.)
Помню, как вызволял из липких и цепких стукаческих лап свою сестру и ее подругу Ирку Зайцеву.
Их, как и всех студентов факультета журналистики, выставили однажды на Манежной площади кого-то встречать. Раздали портреты вождей. Истомившись в ожидании проезда неведомого закордонного борца за счастье всех народов, девицы зашли на "психодром" (это сквер такой перед старым Университетом, за чугунной оградой, где студенты обыкновенно "психуют" -- то есть переживают и волнуются, затверживая последние "шпоры" к экзаменам) и сели, по зимней поре, на спинку старинной, с царского, наверное, еще времени, скамейки под деревом, поставив ноги на сиденье, а лики начальства на палках беспечно прислонив тут же рядом. И надобно ж беде случиться, что как раз в это время стукачи с юрфака проходили практику: учебный арест и допрос. Шаря в поисках жертвы, они забрели на психодром и тут наткнулись на благодушно беседующих кумушек.
- Та-ак! - сказал стукач, что поразвязней, прихватывая оставленные без призора портреты. А тот, что понаглей, прибавил:
- Пройдемте!
И эти две здоровенные дуры, представьте себе, пошли. (Как выразилась впоследствии Зайцева, у нее от страха "очко ёкнуло".)
Я тем временем сидел в библиотеке - готовился к лекции. В зал вбежала, запыхавшись, Варя Парфёнова - еще один персонаж, с того же третьего курса. Горячий, смешанный с морозом шепот:
- Володя! Олю и Ирку арестовали!
Она, оказывается, таясь, следовала за конвоем и заодно разведала, что моей сестрице и ее подружке уже шьют дело: они, дескать, с целью глумления чистили снег на садовой дорожке, орудуя, как лопатами, портретами членов политбюро.
Добежали. Я распахнул указанную Варей дверь на первом этаже юрфака. За конторским столом восседал, покуривая, бронзоволикий брюнет - как видно, преподаватель заплечных наук - и что-то диктовал. За другим, обочь, его прилежные, обсыпанные неизбывной стукаческой перхотью практиканты заполняли какие-то ксивы. А напротив юных чекистов - вот они, застывшие от ужаса, пленницы-подельницы: голенастая и востроглазая будущая бывшая художница чаше-купольной школы, иконописец, регент, игуменья вновь открытого женского монастыря - и сестра моя - плоть от плоти моей тамбовской, кровь от крови, закипающей в жилах от ярости.
Как вести допрос, я знаю, - правда, только по-английски. Помню, как студент Метелин на военке мечтательно произнес:
- Еще чем допрос хорош...
- Чем же? - живо заинтересовался Ярошевский.
- Душу можно отвести, товарищ подполковник! - двинул кулаком по воздуху добродушный здоровяк.
- Что вы, что вы! - всплеснул руками интеллигентный преподаватель спецпропаганды...
Я потребовал, чтобы арестантки немедленно вышли из своего узилища, а стукачи, включая и горного орла, - предъявили документы, - выхватив, как пистолет, багровое удостоверение репортёра. Этим, собственно, дело и закончилось.
Вспоминается мне и Мила Цандель - наша выпускница. Она стояла на лестнице факультета журналистики и плакала. Я спросил, в чем дело. Оказалось - не допустили до творческого конкурса, а значит, - и до вступительных экзаменов в Университет. Я взял ее бумаги и пошел в приемную комиссию; спросил, в чем дело. Увидев её фамилию, там стали путано объяснять: конечно, девочка с отличием окончила Школу юного журналиста, - но она представила вырезки из многотиражной газеты со своими публикациями, не заверенные печатью редакции, - а времени заверить уже нет: сегодня - последний день приёма документов, и день этот уже кончается.
А стояло за всем этим магическое число: одиннадцать. Одиннадцать процентов евреев - и не больше - имели право учиться в МГУ...
- Хорошо, - сказал я. - Творческие работы неправильно оформлены. Так?
- Так, - облегченно вздохнул председатель, пряча глаза от срама.
- Тогда я изымаю их из папки. Мила, возьми эти вырезки себе на память и больше никому не показывай. Теперь документы Цандель в порядке, принимайте их.
- На каком основании?
- А вот же здесь лежит рекомендация Школы юного журналиста, которая даёт право поступления вне конкурса, без всяких публикаций.
Мила стала абитуриенткой, а потом, кажется, и студенткой - за дальнейшим я уже не следил.
Итак, на противоположной от синагоги стороне переулка плотной цепью стояли стукачи, а поближе к зданию - ветхозаветный народ: умудрённые жизнью деды, ребятня, луноликие женщины, томимые тоской по ностальгии.
- Евреи! Если я так и дальше буду пить, так я и гитару пропью, - сказал отчаянно хмельной молодец в ермолке. Окружающие было шарахнулись, но, глянув, сразу успокоились: как говорил Лао Цзы, не важно, что сказано, а важно, кто сказал.
Евреи играли на расческах и пели гимн "Алейхем, шолом алейхем": "Израиль - родина евреев...", - а милиционеры убеждали их разойтись но домам.
Вспыхнул блиц - кто-то с противоположного тротуара сделал снимок. Его кинулись искать, чтобы засветить пленку (я тоже попал в кадр), но не смогли пробиться через мощную группу стукачей, выстроившихся там.
У евреев, видимо, был уговор - не поддаваться на провокации. Тогда началось их избиение.
Стукачи цепью встали у входа в палисадник газеты "Советский спорт", настороженные, в позе каратистов. Туда затаскивали - одного вчетвером - особо ретивых евреев и избивали, а потом выбрасывали на улицу. Приворотные же стукачи охраняли вход, не пуская внутрь никого, кроме избиваемых.
Это у них было хорошо продумано и организовано. Они действовали заодно с милицией. Скорее всего, шайка их называлась - "комсомольский оперативный отряд".
Двое держали еврея, а третий дал ему под дых, прибавя: "Ап!". Еврей скрючился, и его кинули в милицейский фургон. Туда же швырнули какую-то блондинку с распущенными волосами. Задержанные через решетку переговаривались с оставшимися на свободе.
По улице Архипова, всегда пустынной, раскатывали легковые автомобили, в каждом из которых сидело пятеро мужчин, - шугая образующиеся группки, слепя фарами, не давая сговориться и решить, что делать дальше.
(После боя у синагоги я стал воспринимать милицию как опасный объект. Это и есть правильный взгляд на вещи, который совершенно непонятен, скажем, американцам: как полиция может быть опасной?)
- Евреи, да что же вы смотрите! - слегка картавя, кричала W, хотя в ней текла только татарская, африканская и голландская кровь ее простонародных и благородных предков (помню строчку из её стихов: "То ли гром гремит, то ль посуду бьют..."). - Беритесь за руки, не пускайте машины!
Но евреи робели...
Я запомнил всех стукачей, которые были там, - особенно двоих. Один - белобрысый, прыщавый, с клюшковатым поросячьим носом. Это он приговаривал: "Ап!", ударяя еврея под дых. А второй - бритоголовый альбинос, больной стригущим лишаем. Его я часто встречал потом возле старого Университета, где он работал в лаборатории коммунистического воспитания.
Евреи пообещали нам, что уж завтра-то они дадут стукачам как следует. На другой день и вправду к синагоге пришли уже одни бойцы. Но самое интересное было то, что стукачи в этот раз пригнали целую банду каких-то южных башибузуков, и было непонятно, кого бить. Я дал одному по зубам, потом смотрю: двое дерутся - и оба чёрные. Огляделся - сам чёрт не разберет, "кто есть who", как сказал бы профессор Грушин, - да ещё темень... Я и ушёл домой.
Но это ещё не все. Ректор Школы юного журналиста Миша Молошенко - стеснительный до дрожи в коленях аспирант - пригласил меня через пару дней на заседание совета и там, в кругу любопытствующих менторов, подчеркнуто благожелательно предложил:
- Володя, расскажи, когда, при каких обстоятельствах и как ты водил учащихся на еврейский погром.
Они решили, что это был, так сказать, наглядный урок социологии, который в принципе мог сойти и за контрреволюционную агитацию. (Глупая девочка с русской фамилией поведала своей богоизбранной маме обо всём, увиденном в Судный день на улице Архипова, а та, конечно же, пожаловалась на меня декану Засурскому - лицу более чем компетентному.)
- Не бейте евреев, - посоветовал я коллегам, - и дети не увидят ничего плохого.
КАФЕ
И мы за это полюбили
Москву, как маленький Париж...
Стояла осень - золотая, полная надежд.
Теперь-то я понимаю, что в это кафе (для переводчиков в "Метрополе") ходили одни стукачи.
Я входил в это кафе, заказывал традиционную яичницу с ветчиной, масло, тонко нарезанный хлеб, томатный сок и кофе со сливками и, в ожидании кофе, писал в блокноте "Дневник социолога" для "Литгазеты", воображая себя немножко Хемингуэем.
Вокруг сидели одни иностранцы, а также бравые мальчики и фирмовые девочки из "Интуриста".
Гоголь со вкусом писал о трактирах. Это было бы скучно, но только не при развитом социализме, когда общественный прогресс в зените, а жрать нечего.
Андрюша Гусаров впервые привел меня в "Националь". Вокруг кофейника сидела буйная компания девиц, возможно, и с парнями, - не вспоминается как-то, - нет, пожалуй, одних девиц. Мы с Андрюшей заказали по пожарской котлете и кофе. С тех пор я стал завсегдатаем (при деньгах) этого кафе, справляя здесь все праздники, случавшиеся по дороге.
Крышку кофейника надо было придерживать, чтобы она не падала в чашку, кончиками ногтей большого и указательного пальцев, поскольку она была горячей. Как-то, забывшись, я налил кофе в фужер.
В "Нац" регулярно, как на работу, ходил известный по всей Москве стукач, работавший под фарцовщика. Первый раз он сидел за нашим столом и вежливо грозил официантке. Одет он был неряшливо и провинциально, в какую-то байковую ковбойку и пиджак. Когда он рассчитался и ушел, официантка пожаловалась нам, что он каждое утро приходит сюда и заказывает бутылку кефира и на копейку черного хлеба. Потом этот парень прибарахлился и стал и вправду походить на фарцовщика, только рожа подводила - широкая такая ряха с серыми бесстыжими глазами переодетого жандарма. Помню, на нем был длиннючий вдольполосный бело-алый шарф, замша и традиционная пыжиковая шапка. В этом всем он, оживлённо жестикулируя, вел на улице Горького переговоры с иностранцами.
Еще там сиживал Серёжа Чудаков, к которому с моей легкой (или нелегкой) руки приклеилась кличка "Мэнсон", хотя мы практически не были знакомы. Как-то, когда я сидел в "Национале", за соседним столиком пьяный Серёжа Чудаков читал проституткам стихи, а те, смеясь, повязывали ему на голову женскую косынку. Чудаков был широко известный в Москве сутенёр, поставлявший баб, готовых на всё, высокопоставленной научно-творческой элите, включая известнейшие имена. Он ворочал большими деньгами, но все растрачивал с легкостью и ходил в потертых брюках и стоптанных, даже, пожалуй, свалянных набок, ботинках. Лицом был мил, в общении приятен, подбирал себе кадры шлюх среди девочек, тьмой отиравшихся в кафе-мороженых Москвы. Его мечтой была ночь с девами-близнецами. Он был поэт, сочинял стихи спонтанно и записывал их между строк чужих книг. Так, поэма "Клоун" была им написана на полях и пробелах журнала объявлений. Потом Серёжа исчез, как в воду канул, - и больше уже не появлялся.
Выплыл, правда, другой Чудаков - Виктор - редактор издательства "Планета". Помню, как он ругался матом, жаловался на похмелье и очень волновался, готовясь к партбюро, где ему предстояло отчитываться. Любимой его поговоркой было: "Не нравится - уезжайте в Израиль". И ещё: "Тот, кто утром водку пьет, никогда не устает". Он ничем не напоминал Серёжу Чудакова - сутенёра и поэта - разве что жизнелюбием, добродушием и склонностью к авантюрам.
Был и еще один Чудаков - Роман (Рахмиэль) Израилевич - библиотекарь университетского оркестра, несчастный, больной старик.
И писательница Мариэтта Омаровна Чудакова - женщина-вамп. Ее боялся сам Осетров, поминая силы, которые туманно именовал инфернальными.
(Евгений Иванович любил цитировать её бессмертную фразу: "Что будет дальше - покажет будущее".)
Интересная была ещё публика в кафетерии под "Москвой". Вспоминаю возбуждённого человека с длинными, темно-желтыми от курева пальцами, похожего на наркомана. Он заказывал по два двойных, потом повторял.
(Там работали две бригады попеременно. Одна - честно, а в другой наглая туповатая местечковая шатенка с выпученными глазами и негрскими губами калачиком гоняла одну и ту же порцию кофейного порошка по пять раз, доводя до мутной жижицы - которой, впрочем, вполне довольствовались захожие из ГУМа провинциалы.)
Был странный парень в полувоенной форме, стриженый и в круглых очках - видно, бывший левый интеллигент, забритый в солдаты и комиссовавшийся из армии по психу. С ним всегда приходила красивая и спокойная девица с вечно печальными, всё понимающими глазами.
Временами она была беременна.
У них были друзья, приходившие и отдельно от них. Один делился впечатлениями:
- Побывал в Питере.
- Ну и как?
- Как в Европе. Всё же прорубил Пётр окно. И сразу в Европу такой помойкой потянуло...
Рядом расположились тётки с ветчиной, колбасами и фляжкой спирта. Они хряпнули по чашечке, после чего одна из них наполнила свою чашку и протянула мне: "На, выпей!" Долго пришлось отказываться: что мне идти на прием к замминистра (я и вправду шёл по журналистским делам в Минсельмаш, расположенный на Кузнецком мосту). Тогда тётка стала приглашать меня в сочинские зятья: у неё в Лазаревской, на улице Спортивной, 14, - двухэтажный дом, который летом заполняется курортниками и приносит фантастические дивиденды. Был я молод, холост, бездомен, море любил, но, взглянув на будущую тещу (а морда у нее была - свинья свиньей), подумал: "Дочка наверняка в неё" - и не поехал.
- Свадьба: двенадцать человек гостей - и всего две бутылки водки, - недоумённо рассказывал близнец, принимая кофе. И пояснил буфетчице: - Евреи...
Близнец был официант. Их было двое, и оба они, кажется, работали в ресторане "Москва", этажом выше цокольного, с торцовой стены гостиницы размещавшегося кафетерия (которого больше нет).
Здание это странное - как бы слепленное из двух совершенно разнородных частей - и впрямь строилось по двум проектам одновременно, позаимствованным архитектором Щусевым у одного из своих учеников и перепутанным им же: фасад строился по проекту одного здания, а боковая часть - совсем другого. (Рассказывали, что при встрече с депутатом Щусевым какой-то дотошный избиратель напомнил великому зодчему об этом постыдном факте и о том, что обокраденный ученик всюду жалуется.
- Это ничего, - успокоил народ Алексей Викторович, - я уже на него донос написал.
- Неудобно - вы все же академик...
- А я не подписался!
Затем, уже при мне, к фасаду приделали еще одну боковину, глядящую на музей Ленина и аналогичную первой, обращенной к Госплану (теперь Госдуме), и замкнули их контрфасадным корпусом. Композиция гостиницы "Москва", некогда парадоксальная, обрела, наконец, видимость единства.
Я любил сидеть в её вестибюле, куда в те годы пускали свободно, и, прикинувшись ожидающим номера, писать, развалясь в удобном кресле перед низким столиком, рядом с пепельницей на никелированной ножке. Потом в Москве не стало таких мест - всюду ввели пропуска, и даже кафетерий под рестораном "Москва" превратили в кулинарию, чтоб не шлялись досужие диссиденты, особенно охочие до кофе и противопоставлявшие этим себя народу, предпочитающему спиртные транквилизаторы.
Гардеробщиками в ресторане "Москва" служили бывшие сотрудники КГБ, уволенные за какую-либо провинность (например, зашиб кого-нибудь на допросе или еще какую промашку допустил) и бравшие чаевые серебром. Один был особенно страшный - высокий, с орлиным носом, он впоследствии отпустил смоляную бороду и стал ещё страшнее.
Повторяется старая история. Что же, надо взять себя в руки. Сжаться, как от удара.
Надо сосредоточиться на себе, внутренне уединиться, собраться в себе самом. Что я, что во мне, куда я иду, с кем и зачем - это всё нужно хорошо себе представлять.
Не следует поддаваться никаким влияниям, надо избегать их, оставляя лишь одно влияние - философской классики.
Эффект Эдипа - превращение опасения в явь. Это случилось со мной и с W. Я боялся измены. И вот вчера разговаривал с женщиной, которую любил и которая изменила мне и ушла из моей жизни, оставив в ней пчелиное жало.
Есть вещи, которые будут происходить всегда. Отелло будет вечно выслеживать Дездемону, и Гамлет - умирать от яда.
...Я сел за мраморный столик посреди зала (все крайние были заняты) и, заказав кофе и закурив, стал выписывать в блокнот из памяти: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен... В этом было спасение. Гераклит, Демокрит, Парменид...
В этом было спасение. До Гегеля я, конечно, не дошел. Дотянул с трудом до Аристотеля.
"И мы за это полюбили Москву, как маленький Париж".
Мне больно, хотя и понимаю, что причина не стоит этого. А впрочем, почему не стоит? Стоит.
Там (в Кацивели) был штормбассейн. Волны ходили по кругу в опоясывающем его корпус смотровом иллюминаторе. Внутри штормбассейна жили люди - там было не то общежитие, не то гостиница, причем в одной комнате сосуществовали представители обоего пола - мало задумываясь над этим обстоятельством.
Развод. И слово-то какое-то мерзкое: как "вытрезвитель", "нарсуд" или "соцстрах". Или уж совсем современное - "дурдом".
(Мне приснилось кафе, которое было одновременно храмом. Стойка бара была алтарём, в котором светился витраж. В его левой части помещалось изогнутое дерево, вроде японской вишни, с которой, как горошины в стручке, равномерно вдоль ствола свисали яблоки. Справа, симметрично дереву изогнутая, скалилась, пыша огнедышащим языком, драконовидная собака. В центре был причудливый цветок или огонь. От барьера стойки шли два симметричных ряда чёрных полированных столов, образующих проход посередине, как кафедры в костеле. Сходство увеличивалось тем, что стульев не было. Между рядов ходил Есенин и вырезал ножом на крышках столов стихотворение: на левом ряду - одну половину строчки, на правом - другую. Мне запомнился только конец последней строки: "...и Ты Сергия прости". Есенин был с белым бантом, в чёрном бархатном пиджаке.)
...Фарцовщик в водолазке и джинсах, обтянутый, как зяблик, выводил из "Московского" по лестнице мешковатого, сильно подвыпившего жлоба. По состоянию обоих чувствовалось, что мятый галстучный жлоб принял из портфеля или из бокового кармана контрабандной водочки, а респектабельный фарцовщик - леденящий коньячный коктейль.
Я хорошо помню то утро в кафе "Московском", куда мы зашли со случайно встреченным на улице Горького социологом Аликом Казакевичем, и наш разговор за восемью чашками кофе, которые принесли почему-то все сразу.
От него я и узнал о косвенно известном мне уже, впрочем, из других источников отце Александре Мене, который занимался как раз этими, до боли важными для меня темами - началом мира и мирового зла.
Часть третья
СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ
СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК
Село Новая Деревня, растянувшееся вдоль старого Ярославского шоссе, стало окраиной города Пушкина. Город разрастался, подминая под себя патриархальные полукрестьянские дома, и подступал все ближе к теремку очень скромной бревенчатой церкви Сретенья.
Церковь эту называли красноармейской. По преданию, построили её новодеревенские мужики, вернувшиеся в 1920 году с гражданской войны. Рассказывают про лысого красноармейца с саблей, который ходил по домам - собирал подписи, а потом поехал с товарищами в Москву к Калинину за разрешением. На станции Пушкино были сложены штабелем брёвна от разобранной ещё до революции старой часовни (на её месте благочестивый купец возвёл каменный собор). Эти бревна перевезли на лошадях в Новую Деревню и построили здесь свой храм. Каменная церковь, на станции, не устояла - её снесли большевики. А деревянную, красноармейскую ломать не решились, а может, просто руки не дошли. Да и стояла она не на виду, в глаза начальству не бросалась.
- Приезжайте в следующий раз к середине службы, - посоветовал мне отец Александр. - А то вы поначалу, с непривычки, обалдеете...
Батюшка был молодой, похожий на начальника лаборатории. Старинный стол с распятием завален бумагами. Ласково, лаково отсвечивали озаренные лампадами лики икон.
Комнатка священника была крохотной и обставленной, на первый взгляд, безвкусно. В мягкое кресло посетитель погружался почти с головой, автоматически съедая половину батюшкиного обеда - яблоко, огурец, кусок вареной рыбы.
- Жаль, что у вас нет телефона. А то вы могли бы ждать звонка...
Отец Александр прихлебывал крепчайший чай из огромной фаянсовой кружки, и глаза его - бархатные с серебряными блестками - глядели чуть иронично и насмешливо. И мир делался нестрашным. Он теребил чётки и слушал, не проявляя ни малейших признаков нетерпения, даже если вы говорили сущую чепуху. Да и что наша жизнь, если не шелуха страстей, обид, нереализованных амбиций, невежества крайнего и до крайности самонадеянного?.. Скорлупа души трескалась и опадала, проявляя, высвечивая зерно, ядро.
- Мы должны быть жёсткими внутри и мягкими снаружи - подобно всем млекопитающим.
Я пришел к отцу Александру впервые осенью 1974 года, чтобы задать ему вопрос:
- Откуда в людях столько зла? Как можно быть одновременно хорошим учёным и плохим человеком?
И он мне ответил:
- Нужно иметь внутренний стержень. - И продолжил:- Представьте себе прекрасное человеческое тело - например, красивую девушку. Вообразите, что исчезла плоть. Что останется? Останется скелет... - (Батюшка рассуждал вполне профессионально, ибо по первой своей специальности был биологом. Да и сколько людей - старых и молодых, мужчин и женщин - отпел и похоронил...) - Скелет ужасен, но он по-своему и прекрасен: в нем есть гармония, пропорции, структура. А теперь представим себе снова, что было прекрасное человеческое тело - и исчез скелет. Что останется?
Лужица дерьма. Нечто подобное происходит и с нашей душой. Надо иметь внутренний, духовный стержень.
Прощаясь, священник произнес загадочную фразу, сославшись на неведомого мне тогда апостола Павла:
- Где Бог - там свобода.
СВЕТЛОВ
Я расспрашивал о манихействе, учении древних персов, о Шестодневе. Отец Александр охотно рассказывал, давал книги.
Одна из них - "Магизм и единобожие" Эммануила Светлова - поразила ясностью и изысканностью мысли. Я спросил:
- Кто этот автор? Жив ли он?
Мень засмеялся:
- Жив. Это я.
ПОГОНЯ
...
Однажды мне приснился сон: будто я вхожу в ограду старого Университета - на "психодром" и направляюсь в столовую под аркой. И вижу множество народа - словно студенты собираются "на картошку" или на военные сборы. Причем замечаю, что все там какие-то странные - одеты в чёрное и вроде как... урезанные: у одного кость высовывается вместо руки рукава, у другого и вовсе кусок бока вырезан - ребра голые торчат... Надо, думаю, уходить отсюда, пока цел.
И тут эти в чёрном меня заприметили.
- Братцы, гляньте, - один кричит, - а этот-то вон - не урезанный! Другой обрадовался: - А сейчас мы его, - говорит, - голубчика, поурежем!
И достает из-под полы здоровенный нож, навроде хлебного.
Жутко мне стало: ведь я какой бы сильный не был, со всеми-то мне одному не справиться.
И кинулись эти урезанные на меня!..
Я в ужасе проснулся.
Посмотрел в лунном свете на часы - четыре.
Я понял, что кто-то мной интересуется и что я нуждаюсь в духовной защите и ограждении.
Духи ада любят слушать
Эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки
По дорогам скрипачей.
"Да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленнаго волка звероуловлен буду".
Полежал немного, встал, тулуп натянул, добрался по сугробам через лес до кольцевой дороги (жил я тогда у друга в Лианозове) - а оттуда - в Пушкино.
Приехал - в церкви тихо, светло, хор поет: "И вожделенное отечество подаждь ми"...
Ужас наваждения отступил.
Крестил меня отец Александр тайно, в канун Нового, 1976 года.
- Повторяйте за мной: "Отрицаюся тебе, сатано, и всех дел твоих"...
- Отрицаюся...
Он повесил мне на шею большой медный крест.
СФЕРА МИРА
Купол неба и чаша земли. Священник поднимает чашу к куполу храма. Храм - надежное место, где мы под охраной (Божией).
GENESIS
Было в Мене что-то царское - великодушие, изысканность, аристократизм, который виден всегда.
Не от семени ли Давида-царя шел его род? Вполне возможно. Евангелие от Матфея не случайно начинается родословием Иисуса, который был - Царь Иудейский по праву, а в Богосыновстве Своем - Царь царей.
СТРАННИКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ
- Раньше в Золотую Орду ездили, - говаривал старец Иоанн, - а теперь и ездить никуда не надо - кругом Орда...
Был он ласковый, светлый, и келья была чистенькая, с кружавчиками, салфетками. На стене висела вправленная в застекленную рамку грамотка о том, что отец Иоанн Крестьянкин - святой старец, за подписью патриарха и с круглой печатью.
Отец Адриан был бесогон - то есть он изгонял из людей бесов. Сперва он служил в Загорске, но когда изгнал беса из кого-то из работников аппарата ЦК, его убрали подальше от Москвы, в Печоры. Он жил в одной келье с бесноватыми. Бесы его боялись панически и пищали при его появлении.
Отец Ефрем был буйный, угрюмый интеллигент. На полу его кельи валялись пыльные книги, пластинки, в угол стола была сдвинута старинная пишущая машинка - по ночам он тайно кропал стихи. Репутация у него была гуляки и забулдыги.
Ещё там был отец Варнава - отец-эконом, за мрачность нрава прозванный Вараввой.
Отец Дамаскин - невыспавшийся, прянично-румяный, ходил по коридору, пил из ведра брусничный квас и убеждал всех приезжих оставаться жить в монастыре.
Отец Рафаил, прозрачный, как пламя восковой свечи, проповедовал в нелюдном храме:
- Ведь какую любовь, братие, даровал нам Господь...
(Это была его первая служба.)
Отец Алипий, выйдя на балкон, в полевой бинокль оглядывал своё царство.
Отец Рафаил (Борис Огородников) до монастыря был крупным комсомольским деятелем в каком-то московском институте. Когда он уверовал, вожди комсомола получили от партии задание - вернуть его в свои ряды. Те принялись за дело. Сперва зазвали Огородникова на Останкинскую телебашню - в высотный ресторан "Седьмое небо": смотри, дескать, как разумен и могуч человек! Но доказать, что Бога нет, так и не смогли.
Тогда спустились с ним под землю - на строительство станции метро "Марксистская": можешь, мол, сам убедиться - нет в преисподней ни сковородок, ни чертей! Но и тут вера Бориса не поколебалась.
Делать нечего: пригласили его молодежные начальники на Красную площадь, в тайная тайных - сверхсекретный спецотдел ГУМа на четвертом этаже - только для своих, где продается всякий импортный дефицит за полцены: выбирай, что душе угодно! Но Рафаил перед соблазном устоял и уехал в Печоры.
Отец Алипий отличался солдатской прямотой. Когда примкнувший к нам по дороге хиппарь Вася из военного городка попросил принять его в монастырь, наместник спросил:
- А зачем вам в монастырь?
- Хочу уединиться, - признался Вася.
- Дома уединяйтесь, - неласково порекомендовал отец Алипий.
В войну он был офицером, дослужился до полковника. В сорок первом году его часть попала в окружение. Долго бродили они, голодные, раненые, с последними патронами, без медикаментов, по лесам и болотам, хоронясь от вражеских войск. И вот как-то ночью, когда пришло отчаяние, явилась ему Богородица и сказала:
- Ступайте за мной, я вас отведу к своим.
И перевела их через немецкие траншеи. А немцы спали.
Когда война кончилась, он постригся в монахи и под именем Алипия стал жить в Троице-Сергиевой лавре. А тут умирает старый наместник Псково-Печорского монастыря и завещает, чтобы его преемником был ни кто иной, как отец Алипий из Загорска (видимо, знал его или слышал о нём). Трижды являлись к отцу Алипию с предложением принять монастырь, и трижды он отвечал отказом, желая остаться в простом монашеском звании. Тогда последовал приказ, и отец Алипий из послушания поехал в Печоры наместником. Приехал, а ему сообщают, что власти монастырь хотят закрыть и даже все бумаги для этого приготовлены. Отец Алипий распорядился ворота монастыря запереть, а бумаги сжечь.
На другой день вызывают отца Алипия к властям. Он явился - с посохом, в рясе, клобуке. Власти спрашивают:
- Ну что, видели документы?
Отец Алипий:
- Какие документы?
- На закрытие монастыря.
- А я их сжёг.
- Как?! - те начали на него орать.
Отец Алипий послушал, послушал, а потом как хрястнет посохом по столу - чернильницы во все стороны полетели - и закричал громовым голосом (а голос у него был страшный - он ведь был на войне полковником):
- Сидите тут, сволочи, а по вас давно Сибирь плачет!
Те прижухли и думают: раз он так смело себя ведёт, значит, у него наверняка есть рука в ЦК. И отступились - на время.
Тут пошла эпидемия холеры, и власти пустили слух, будто монастырь распространяет холеру через целование икон и крестов. Опять решили закрывать монастырь, но отец Алипий велел ворота запереть.
Тогда подтянули к монастырю войска, но штурмом брать постеснялись - с пушками, танкетками против стариков-монахов. Оцепили и стали ждать. Думают: без воды да без пищи долго ли они протянут?
А надо вам сказать, что Псково-Печорский монастырь - это средневековая крепость, способная выдержать многодневную осаду. Там и колодец есть со святой водой, и припасы в погребах, и тайные подземные выходы наружу.
Вызывает к себе отец Алипий на заре молодого монаха, даёт ему чудотворную икону и говорит:
- Езжай, Володя, в Москву, в Институт эпидемиологии, и возьми у учёных справку, распространяют иконы холеру или нет.
Монах через подземный ход вышел, на такси в Псков, там на самолет - и в Москву.
Приехал в институт. Там ему выдали справку по всей форме: что холера - болезнь желудочная и через иконы передаваться не может.
Он тут же обратным рейсом в Псков и в тот же день является к отцу Алипию.
И вот отворяется монастырская калитка и оттуда выходит процессия, неся застеклённую, обрамлённую справку - с подписями академиков и печатью. Власти посмотрели - на справке сегодняшнее число. Тогда они решили, что это чудо, и отступились.
От ворот монастыря к Успенскому собору ведёт красная дорожка под уклон горы. Когда-то, за резкую критику царя, опричники казнили здесь архимандрита Корнилия - тогдашнего наместника, а его обезглавленное тело протащили вверх и бросили вне стен монастыря. Тропа окрасилась кровью в алый цвет, в память о чём она всегда посыпана толченым кирпичом. А раз в году, в день Успения Божьей Матери, дорожка эта вся покрывается живыми цветами, принесёнными народом.
До войны отец Алипий был художником. В монастыре он расписал фресками внешние стены собора.
Приезжала к нему Фурцева.
Отец Алипий принимал посетителей, стоя на балконе второго этажа своих апартаментов. Он и для министра культуры не сделал исключения.
Спустилась Фурцева от ворот, задрала голову на балкон и стала увещевать:
- Игорь Вениаминович! Вы ведь талантливый художник. Стоит ли губить себя в монастыре?
Возвращайтесь в Москву, мы вам мастерскую дадим, устроим выставку в Манеже.
- Екатерина Алексеевна! - (Или как её там звали?) - вежливо ответил ей отец Алипий, скрестивши руки на груди. - К сожалению, ничем не могу быть вам полезен. Я ведь знаю - вам конь нужен, а мне на фронте яйца оторвало.
Фурцева подхватила свои длинные юбки и, вместе со свитой, опрометью кинулась по дорожке вверх, вон из монастыря - к черной "Волге". Больше она его в столицу не приглашала.
У ЦАРСКИХ ВРАТ
Алтарник Сережа был чёрный, страшный, высокого роста, лет ему было за сорок, и он отличался необычайной кротостью и добротой, напоминая тропарь "благоразумному разбойнику в рай путесотворил еси вход".
Отец Светоний словно и создан был старцем: маленький, лысый, опушённый несоразмерно большой белой бородой.
Отец Хрисанф производил зрелище величественное и даже подавляющее. Он уверял меня, что своей молитвой может вызвать дождь. Чувствовал себя колдуном.
Отец Валиил, обвыкнув в церковном быту, приобрёл новую, православную вальяжность, позабросив и француженок, и стихи.
КОПЫТЦЕ
Мы с сестрой сидели на брёвнышках возле храма в погожий субботний день.
Отец Александр прищурился от солнца и раздумчиво произнес:
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка...
Разглядел книгу у меня на коленях и прибавил:
- Не читай, братец, "Георгия Федоровича" - козлёночком станешь!
ПУТЬ
Нельзя сказать, что философией заниматься достойно или праведно (как и математикой, или музыкой). Это неотвязное дело для тех, кто не может успокоиться никаким иным образом. Успокоиться в процессе - "своём" деле.
Вот почему занятие философией не имеет моральных оправданий, да и не нуждается в них. Философия - жестокое профессиональное дело. Нельзя сказать, что философ праведен. Он может быть на правильном пути к истине, может создать истинную систему, но истина не открывается ему, а светит издалека, как привлекательная цель. Цель, которую он стремится поразить, изловить.
В философии нет ни откровений, ни догматов, ни таинств. В ней попираются авторитеты или избираются по сердечной склонности. Это сфера чистого Логоса, мышления, как бы ни притягательны были созерцание, радость и любовь.
Метафизика избирает в мире чистые сущности, которые и суть её предмет. Происходит сведение и сокращение сущностей.
Предельная сущность - мир. Бога не видел никто никогда. Христос - предобраз мира. Мир до грехопадения - образ и подобие Божие; его сосредоточие - Адам (земля).
Христианство - соблазн для эллинов своей предметностью, конкретикой: Сын Божий родился от Девы, имя Его - Иисус, Он был плотником из Назарета. Мы вкушаем Его плоть и кровь. Не куда-нибудь, а именно к Нему мы придем по воскресении. Святые конкретны, они имеют имена.
Христианство конкретно, оно слишком конкретно: мой батюшка, мой храм, вот эта икона, эта свеча, эти деревья за оградой кладбища и этот дымок над костром привала паломников...
Надо жить так метафизически убедительно, чтобы истина этого бытия сияла своей очевидностью.
ОДНАЖДЫ
- Человек ли ты?
- Так, Господи.
- Страх держи в душе.
- Почему, Господи?
- Человек ли ты?
- Так, Господи.
- Страх держи в душе, человек. Не служишь ли врагу Моему?
- Нет, Господи.
- И впредь не служи. Суесловием не грешишь ли?
- Грешен, Господи.
- Иди и не греши больше. Не служишь ли также и маммоне?
- Грешен, Господи.
- Иди и больше не греши.
- Господи! Господи! Как жизнь прожить, исполненную смысла?
- Сердцем твоим и умой, всеми помышлениями твоими и делами служи Всевышнему, о малом же не помышляй. Ибо всё в воле Его. Богу единому служи, как Я служу Отцу Моему. Ближних возлюби, как Я возлюбил возлюбленных Моих. О пище не заботься, о крове и одежде, ибо дам тебе. Земную славу отринь, ибо во Мне истина и суть сущего, и смысл имеющего быть. Так живи, и спасён будешь, и путь обретёшь и жизнь вечную.
САМОЕ СТРАШНОЕ
Дети в одиночестве испытывают страх. В детстве всегда должен присутствовать взрослый человек.
Для взрослых в роли взрослого выступает Иисус Христос.
Ночь, когда мне приснилось, что Бога нет. Ощущение непоправимого несчастья.
Пронзительно острый месяц глядел в окно, давила шею цепочка от креста. И было так невыносимо тяжело, словно мне душу отрезали.
ОТЕЦ
- А вы как живете?
- Хорошо, батюшка, слава Богу. Работы вот только много.
- Работы много - это не беда. Плохо, когда грехов много.
- И грехов хватает, батюшка.
Отец Александр ободряюще кивнул.
ЗОВ
Я проснулся утром от звериной, тигриной масти страсти.
MEMORY
В печаль открытого окна
Челном любви вплыла луна,
И пальцы тонкие сплела,
И липким воском залила,
И не оставила следа
Печать росы в ночи стыда.
Штормбассейн. Почему-то больше всего мне вспоминается штормбассейн.
Обычно вода в нем была мирной - морская, голубовато-зеленая, она виднелась в смотровых люках, если быть снаружи. Лишь однажды я видел, как по кругу воды, опоясывающему штормбассейн (как в самоваре), ходили волны. А вообще там можно было устраивать бурю какую угодно, в любое количество баллов. В штормбассейне, кроме того, жили люди. Там внутри были просторные комнаты с огромными, настежь распахнутыми окнами, койками, стульями, столами, тумбочками и утюгами. Там жили, не особо задумываясь над различиями пола, безмятежно и просто, молодые гидрофизики - загорелые, румяные от помидоров, насквозь просоленные морем. Ещё гидрофизики жили в фанерных домиках на берегу, хотя жить там не полагалось, так как берег был испытательным полигоном, а домики - лабораториями с контрольно-измерительной аппаратурой. Тщательно скрывались следы жилья: матрасы с одеялами и подушками, остатки репчатого лука, соль, рапаны, рыбья чешуя, бутылки из-под дешевого крымского вина.
Одним летом на полигоне поселились сёстры, которые ходили в махровых полотенцах и совратили физиков всех до единого, а потом всем ужасно надоели. В ходу было слово "клиент".
Был очень популярен только что возникший анекдот про космонавта Хабибуллина, забывшего свои позывные, которому с земли по радио говорят: "Хабибуллин, жопа, ты же Сокол!"
Вечерами все население Симеиза и Кацивели, несмотря на жару, пропадало у телевизоров: шла премьера фильма о Штирлице.
Антисемитизм там был, но умеренный, просвещённый - не как у необразованного сословия России.
Приехал жирный, сальный, весь в деньгах, сибиряк - слегка раскосый, как медведь, с жирными руками и волосами. Произнёс не ведомое дотоле словечко "БАМ", куда в этот день отправлялся первый поезд добровольцев, цитировал речь Брежнева, был очень воодушевлён перспективами дороги.
Сосновые шишки бомбардировали крышу. В окно, пришторенное занавесками, посвечивая русалочьей чешуёй, вплывала бесстыдная ночь.
На садовой скамейке спал в обнимку с мотоциклом участковый милиционер по кличке Шериф.
ВИДЕНИЕ
"Детейрос - это значит ходить по острию ножа, или жить так, как живут евреи.
"Пришел ученик к учителю и спросил про кипрамту (смирительную палку)".
- Ты еси священник по чину Мелхиседекову, - сказал батюшка, облачив меня в крылатое одеяние во сне. А я привалился головой почему-то к пианино и заплакал о своих грехах.
- Господи, Ты создал меня таким, - плакал я. - Не презри создание Свое! Гнев, гордость и плотское вожделение - вот и всё мое существо. А где же память смертная, любовь, обетование вечной жизни?
ГРЕХИ
То, что мне хочется забыть, я помню.
Первую женщину я познал относительно поздно - на третьем курсе. Было это так.
Ближе к зиме мне стала благоволить знакомая скрипачка. Была она старше меня лет на шесть - на семь и носила очки на коротком, чуть вздернутом носике. И захотела она прийти ко мне в гости в общагу - посмотреть, как она выразилась, как я живу.
Сосед мой, как принято у нас было, на этот вечер смылся. Провел я скрипачку мимо бдительных вахтеров, попросив у кого-то из наших девочек пропуск (на это всегда шли охотно и с пониманием, потому что половая жизнь, или любовь, пользовалась в общежитии большим уважением и сочувствием).
Сели мы с моей скрипачкой за столик в крохотной общежитской комнате, зажёг я для интима настольную лампу, накрыв ее полотенцем, и стали пить ликер "шартрез" - "зелёный забор", как называл его граф Думбасов.
(Граф Думбасов играл на контрабасе и отличался мрачностью характера и вместе с тем большой человеческой отзывчивостью. Шутил он обыкновенно так:
- Володь, а Володь!
И на вопрос:
- Да? - говорил уловленному простаку:
- Пойдем яйца колоть, - а вообще был очень положительный товарищ.)
Разговаривали, вспоминали летнюю поездку по Прибалтике.
Потом скрипачка моя прилегла на кровать.
Ещё не очень веря в себя, я поцеловал её в губы и снял с неё очки. Она не сопротивлялась. "Можно? - спрашивал я, - можно?" - и, не получив ответа, стал сворачивать с неё колготки и вообще всё, что было надето ниже пояса, впервые увидев мохнатое сокровенное женское место. Тут только сообразил, что не сняты сапоги, стянул и их, расстегнув, и сбросил на пол вместе с одёжей. Вспомнив, запер дверь на ключ, поспешно, словно в жаркий день у озера, разоблачился сам.
Она лежала, раскинув ноги, как чайка крылья. Уподобившись Эмпедоклу, кинувшемуся в пекло Этны (философ, как мы помним, выдавая себя за бога, решил таким образом скрыть факт своей смерти от учеников; но вулкан подвёл его, выбросив наружу медную сандалию), я устремился к огнедышащей пучине. В муке выдохнул:
- Помоги же мне!
Двумя пальчиками она вложила оружие в ножны. Я с трудом протиснулся вовнутрь, ощутив блаженство и лёгкую боль от тесноты. Так состоялось моё посвящение в мужчины, боевое (или, лучше сказать, половое) крещение в женской купели.
Кровь теплой волной подступила к сердцу, докатившись до кончиков пальцев рук и ног. И меня объяла неслыханная радость, не ведомая мной дотоле. Я понял, что такое женщина, и как многое я приобрел.
А утром она оказалась совсем некрасивой.
До этого у меня и грехов-то особых не было: пьянство, ложь да рукоблудие. А тут появилась грешная любовь, в которую я вступил с великой гордостью, называя свою подружку любовницей, хотя она этого слова не любила.
По сути дела, мы были с ней просто друзьями, причём друзьями хорошими и откровенными, но боюсь, что в юные годы, при отсутствии религиозных нравственных заслонов, такая дружба почти всегда тяготеет к греху и стремится к разрешению им - как доминанта тяготеет к тонике.
Дружба наша продолжалась недолго - примерно полгода. Но и потом, когда мы с взаимным облегчением расстались, а подружка моя вскоре вышла замуж за дирижера, уехавшего впоследствии в Австрию, я относился к ней с подчёркнутым уважением, пользуясь, как мне кажется, взаимностью.
Была и другая любовь - художница с могучими устами, квадратным торсом фехтовальщицы и необъятным омутом ложесн, которая была посвящена в языческие тайны, отважно мчалась вскачь на резвом скакуне или лежала ниц, замкнувши зверя страсти в глубь темниц.
(Она целовалась оскаленным ртом, в зубы, сталкиваясь, издавали фарфоровый какой-то звук.
- "Волки от испуга скушали друг друга", - вспомнил и промолвил наш герой.
Она шутливо ухватила его зубами за шею.
- Вампир! - выдохнул он, проваливаясь в небытие...
Однажды герою приснилось, что она - две личности во едином теле, две души, паразитирующие друг на друге, - конфликтующие структуры. Ночная душа совершала ночные убийства, дневная жила, не ведая об этом, но догадываясь, как о кошмарных снах. Себе герой приснился как расследователь тайных злодеяний ночной её души. Но всё это было чупухой и, повторяю, сном героя.)
Так вот, даже нравственное чувство моего соседа Геры Шуцмана - явление эфемерное и парадоксальное, в сущности, фантастическое, как какой-нибудь дракон, - было поколеблено жёстким, рискованно раскованным юмором юной художницы.
А меня убивали её мемуары - например, о встрече Нового года в Риге:
- Были записи - Адамо, Азнавур. Шампанское. И он факал меня всю ночь.
И вот уж сколько лет прошло, и мы никто друг другу, и ни разу не виделись с тех пор, - а я всё не могу смириться с этим - с тем, что кто-то факал её всю ночь.
Было и ещё одно нелепое существо, пожелавшее мне отдаться, с прыщами на заднице. Тут и вовсе не было ничего интересного.
А потом была любовь...
И вот настала трезвость.
Сидела женщина на скамье, и жёлтый лист лежал у неё на рукаве, как луч фонаря. Стояла пора Покрова.
OCCIDENTAL
Бывают моменты, которые не ощущаются мной как грех.
Поезд в Ригу, тёмное купе.
Мы крепко выпили с соседом по вагону в вагоне-ресторане - три бутылки сухого вина.
Соседка - дама в парике, сдвинутом набок, пришла уже под этим делом (на собственных проводах пришлось ей выпить спирту). Была она на вид высокомерна.
Помню сетчатые какие-то, кружевные, прозрачные, розовые, кажется (хотя как я мог в темноте разобрать?), не то шёлковые, не то капроновые (бывают ли такие?) её трусы, к которым я притиснулся, раздевшись до трусов и майки (наши полки были нижние), обнажённым фаллосом.
На верхних полках спали пограничники. В вагоне вообще ехали одни только писатели-пограничники - на совещание в Юрмалу - и цыганки, громко бранившиеся с проводницей из-за постельного белья (темпераментные потомки филистимлян выкидывали из купе в коридор простыни и наволочки, цвет которых - белый, - как они мне потом объяснили, считается у этого народа погребальным), но, к счастью, сошедшие где-то на полдороге.
Я испытывал к ней тихую нежность и чувство вины на рассвете, когда лежал у неё на плече своей горькой похмельной головой (встретив полное взаимопонимание - у неё тоже голова была с похмелья) и говорил ей, с которой был вечером на "вы":
- Ты прости, я просто одинокий мужчина...
Она согласилась встретиться со мной, "но только не на взморье", а где-нибудь в городе, в кафе, в дневное время. А я не позвонил, убоясь воспоминания о грехе желаемом, убоясь желания совершить и самый грех. Но эта ночь в купе, и это беззащитное и бесстыдное касание, которое она позволила мне, возможно, бессознательно, до большего не допустив, пахло первым дождём и ранней весенней Ригой, и одиночеством, и материнским, товарищеским женским теплом, телом упругим и гладким, сохранившим целомудрие в ту ночь, и мудрым, разделившим моё одиночество, прижавшим тихими ладонями мою больную голову к плечу, склонясь к ней своей головой, оставив на столе не нужный никому парик.
Пограничники в то утро пошли опохмеляться, а вернувшись, притащили чего-то и нам во исцеление души же и тела, а явившийся с ними фотограф Слава, бурно шутивший с соседкой о возможности его брака с ней "хоть сейчас", глазом не моргнув, съел тонкостенный стеклянный стакан.
И так это все перемешалось: соседка, стакан, берег моря, где Слава на пари в апреле искупался, а полковник из военной цензуры (который, впрочем, не очень-то и спорил с ним) не отдал ему проспоренный коньяк, - всё это было Ригой и весной, и неохватной ширью Балтики, песком, иззубренным бризами, и чем-то щемяще-печальным, как чайки и щенки, носящиеся у края воды, нестерпимо горьким, как брызги волн.
Ещё мне вспомнилась Рига, где мы пили кофе с чёрным, на травах настоенным бальзамом, захлёбываясь, для остроты ощущения, табачным дымом.
Наверное, такие вот маленькие радости и делают жизнь счастливой, - подумал я тогда.
Мы сидели в кабачке "13 стульев", в основании тяжкой оружейной башни на ратушной площади. Через площадь, с её выпуклым булыжником, громоздился краснокирпичный, бурый от бурь и веков Домский собор, превращённый большевиками в концертный вал.
Подъехала, видно, экскурсия из Пскова, и мужик псковский, оторопев от интерьера, спустился в погребок. У прилавка он заказал сто граммов бальзама, хлобыстнул его под изумлённые взгляды буфетчиц, а конфетку, даденную на закусь, повертев, положил в карман.
Я до сих пор ощущаю в гортани и на языке вкус кофе и бальзама, - уж и не помню, летом это было или зимой, - а вкус остался, и ощущение незримой, тихой радости, происходящей от него.
ТУРЕЦКАЯ РОЗА
Пограничники дали мне кличку - "Ришелье". (Сработало профессиональное чутьё.)
Сидеть на их заседаниях в двух шагах от моря и в часе езды от Елгавы, где в пустыньке служил отец. Таврион, было невыразимо тоскливо. Я решился удрать в монастырь и отсутствовал в Дзинтари день и ночь.
В пустыньку, притаившуюся в сосновом бору, меня повез молодой рижанин, служивший сантехником в жэке и не расстававшийся с чёрными чётками даже на работе. Мы славно потрудились на монастырском дворе, отстояли всенощную и даже послушали явно местные увещевания пламенного Тавриона:
- Монашкам - в отпуск? Отдыхать? А от чего?!
Заночевали в паломнической келье. Запомнились сумеречные сетования заезжего мужичка на непутёвого сына:
- Он говорит: "У вас в Евангелии как написано? Нельзя служить и Богу, и маммоне. Вот я и буду, - говорит, - служить - маммоне"...
Этот же богомолец, проведав ненароком, что мой напарник посещает в Риге римско-католический костел, чуть не кинулся на него с монастырским колуном - я еле удержал, урезонив ревнителя древлего благочестия старинной тамбовской лексикой.
Чтобы обеспечить себе железное алиби, я решил придумать "легенду" для пограничников (впрочем, они и так не сомневались, что "Ришелье" время даром не терял - и в общем-то почти попали в точку относительно моего по преимуществу дамского общества - монастырь был и в самом деле женский, с суровой игуменьей, первым делом потребовавшей у нас с экуменическим слесарем паспорта и лишь потом дозволившей войти и даже порубить дрова во славу Божию). И когда мы ехали после ранней литургии пригородным поездом обратно в Ригу, я попросил моего спутника назвать какое-нибудь другое примечательное место в Латвии, куда я теоретически мог смотаться, прогуляв погранично-литературные дебаты в гостинице "Юрмала". Он сказал, подумав:
- Это Сигулда.
- А что там интересного?
- Горы, лес.
- А ещё?
- Турецкая роза.
Вообще-то, как впоследствии выяснилось, он сказал: "турайдская роза" - но с таким сильным акцентом, что мне послышалось - "турецкая". И рассказал легенду, которую я самым внимательным образом выслушал и постарался запомнить.
Пограничники, которые как раз заканчивали завтрак, встретили меня восторженными восклицаниями: "Ришелье вернулся!" Лёгкая непристойность их догадок радовала меня, ибо наводила следопытов на ложный след.
- И где же ты побывал? - спросил, наконец, Валерий Андреев - заместитель начальника пресс-службы КГБ (он прославился тем, что в своё время до полусмерти перепугал двигавшихся на моторной лодке китайских нарушителей водной границы, раздевшись донага и кинувшись вплавь по Амуру им наперерез).
- В Сигулде, - ответил я, прожёвывая яичницу с колбасой.
- А что там интересного? - полюбопытствовал капитан-лейтенант Суслевич.
- Горы, лес, - добросовестно изложил я путевой очерк моего приятеля-латыша.
- А ещё?
- Турецкая роза, - небрежно бросил я, порадовавшись своей предусмотрительности. Все навострили уши. - Ну, там жила такая девушка, по имени Роза. А в тех местах тогда были турки - завоеватели. И вот один турок хотел забрать эту самую Розу к себе в гарем. А она ему говорит: "Погоди, я тебе хочу подарить волшебный платок. Если его на шею повязать, то вражеский меч тебе нипочем". Турок, конечно, не поверил. Она тогда говорит: "Хочешь, проверим?" Повязала, значит, платок себе на шею. Он взмахнул саблей и... отрубил ей голову.
Пограничники были потрясены - в особенности этим зловеще-миражным видением сластолюбивого турка в боевом халате, атласных шароварах и полумесяцами загнутых чувяках, с кривым дамасским клинком и хищным янычарским носом, разгуливающего по латвийским холмам. (Возможно, им даже послышалось: "турецкая рожа".)
Дальнейшие расспросы отпали сами собой.
На прощанье Андреев подарил мне свою книгу с сентиментально-мужественной надписью: "Володе Ерохину - товарищу по оружию", вызвавшей в романтических кругах московских христиан панический переполох, развеять который было под силу одному лишь отцу Александру Меню - что он и сделал наконец разящей мощью своего авторитета.
NORD-WEST
Море было плоским - площе берега, вылизанного ветром и водой. На берегу росли коряги. А может, и не росли уже, а так - вцепились в мокрый песок и держались до первого шторма. Море было таким мелководным, что по колено в воде можно было дойти до Швеции, - так, по крайней мере, казалось купальщикам, которые, не утерпев мелководья и холода, окунались, не пройдя километра, едва замочив низ трусов. Побарахтавшись так, они спешили к берегу. Путь к Швеции казался нереальным из-за холода и вязкой воды, по которой много не пройдешь. Море было пустынным. Только изредка по горизонту проплывал рыбацкий холодильник, неуклюжий и темный, как комод.
Песчаная, разузоренная корнями сосен тропа вела от берега, сквозь густые кусты бузины, к русской церкви - заброшенной, с покосившимся крестом, заросшей травами. Дети в белых гольфах на соседнем хуторе играли в бадминтон. Гулко отскакивал от ракеток утяжелённый камешком волан.
Чуть в стороне стояла кирика - лютеранская церковь - высокая, чисто выбеленная, обнесённая низкой каменной оградой. Камни ограды были разными по величине, образуя причудливый орнамент. Петушок на колокольне чуть поскрипывал. С сосен облетали шишки, шлёпая по черепичной крыше.
- Здравствуйте, девочки. Вы по-русски говорите?
- Говорим. - И, спохватившись:- Здравствуйте!
- А старшие в доме есть?
- Есть. Дедушка и бабушка. - Побежали звать.
Вышел чинный старичок с обвислыми усами, лучами морщинок вокруг глаз. За ним шла беленькая старушка с голубыми, как небо, глазами.
- Мы русские, православные, из Москвы... - начал я после взаимных приветствий.
- Ах, - всплеснула руками старушка, - как это чудесно - из Москвы! Я училась в гимназии в Ревеле. Мы пели "Коль славен наш Господь в Сионе". Это было... чудесно! Пойдемте скорее в дом - я сыграю "Коль славен" на фисгармонии, а вы споёте.
Старичок покивал, мы же глупо улыбались, не понимая, о чём идет речь. В то время слышать "Коль славен" нам не приходилось - в России его давно никто не пел. Но откуда было ведать эстонцам, что русские забыли свой старинный флотский гимн, который когда-то вызванивали куранты московского Кремля и корабельные часы-колокола?
Незнание "Коль славен" делало бы нас ("православные, из Москвы") подозрительными самозванцами, и мы не пошли в дом, хотя старички, объяснившие нам дальнейший путь, были трогательно милы.
Через несколько месяцев, следующей весной, я рассказал об этом казусе друзьям. Выслушав, физик Стёпа Введенский, одетый по случаю Пасхи в лоснящийся черный пиджак и хорошо выглаженную белую рубашку без галстука, в своих старомодных золотистых очках, с большой рыжей бородой и огненной гривой зачёсанных назад слегка поредевших волос похожий на учителя царской гимназии, откашлявшись и чуть приподнявшись на скамье, запел:
Коль славен наш Господь в Сионе,
He может изъяснить язык.
Велик он в небесах на троне,
В былинках на земли велик.
Везде, Господь, везде Ты славен,
В нощи, во дни сияньем равен.
В эстонском языке нет будущего времени, но зато есть три прошедших.
Блаженное время: мы пили пиво и читали апостолов.
ДВОЙНИК
Я пел на левом клиросе, когда почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулся - отец Александр Мень задумчиво глядел на меня из алтаря. Взглядом же я потребовал объяснений. Он подошел после службы и сказал:
- Вы удивительно похожи на мою тётушку...
- Чем это можно объяснить? - спросил я в надежде на мистическое истолкование.
- Игрой генов, - ответил отец Александр.
ДУША
За ужином Стёпа рассказывал, как академик Павлов душу поймал:
- Он сперва на собаках тренировался - собачьи души ловил. Это ему удавалось. И решил тогда Павлов человеческую душу поймать. А у него как раз в клинике больной лежал, при смерти. Вот Павлов наставил трубки разные, колбы, реторты, змеевик, вытяжной шкаф приготовил и ждёт, когда этот человек помирать станет. Дело к ночи было. Начал больной помирать. Павлов включил реостат, и душа - бульк! - по змеевику - в реторту! А он её пробкой - шпок! - и закрыл. Поднял вот так, смотрит. А душа бьётся за стеклом, как птица, голубым светится и на человека похожа. Загляделся Павлов на душу, поставил реторту на стол и задремал. Вдруг слышит - сквозь сон - голос ему как будто говорит: "Ты душу-то - отпусти!" Ой! - вздрогнул Павлов, думает: почудилось. Только лоб к ладоням прислонил, а голос опять: "Отпусти душу!" Что за причуда? - думает Павлов. Крестным знамением себя осенил, в кресле откинулся и только было дремать начал, как вдруг слышит: "Выпусти душу, кому говорят! А не то твою заберем!" Испугался Павлов, вытащил пробку, душа - фьюить! - и улетела.
РАЗРЫВ
Жан Поль Сартр рассказывал: однажды, когда ему было четырнадцать лет, он вдруг почувствовал, что Бог его видит. Это показалось мальчику неприятным: видит, контролирует все мои поступки... Он спрятался в ванной. Но понял, что Бог видит его и там. Тогда будущий философ страшно рассердился на Бога и закричал:
- Уходи, уходи! Я не хочу Тебя знать! Я хочу прожить без Тебя, сам!
Больше Бог не приходил.
ПИДЖАК
Ненавязчивость отца Александра Меня была настолько неукоснительной, что давала повод к анекдотам. Например, такому:
"Отец Александр беседует с прихожанином. Когда тот поворачивается и уходит, кто-то говорит священнику:
- Батюшка, у него весь пиджак сзади в мелу. Что же вы ему не сказали?
- Так ведь он же меня об этом не спрашивал, - отвечает отец Александр".
НА КРЕСТНОМ ПУТИ
(Частное письмо)
Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?(Посл. Иакова 3, 11).
Дорогая ...
Ты хотела получить ответ на твои высказывания. Основной вопрос ты поместила во второй половине письма, поэтому я начну с конца.
Наша Церковь никогда не обращается с требованием выходить из комсомола или партии. Церковь принимает всех, приходящих к Ней. Ведь обращение человека к Богу происходит не одинаково - иногда внезапно и полностью, а иногда постепенно в течение многих лет и даже всей жизни.
Сущность вопроса была вот в чём: можно ли быть в группе христиан, которые регулярно собираются, чтобы помолиться, почитать Св. Писание, изучать катехизис, обсудить пути христианина в жизни и т.д., и в то же время оставаться в комсомоле? Я полагаю, что невозможно.
Если человек решил пойти за Христом, может ли он быть там, где Его отвергают и преследуют? Его уход из комсомола неизбежен. Всякий комсомолец, если он ходит в церковь, венчался и крестил своего ребенка, примет всевозможные меры, чтобы это было скрыто, потому что по уставу комсомолец - атеист.
Многое встречается в жизни, что можно и должно понять и с чем примириться, принимая во внимание "всякие обстоятельства", но только до известного предела. В душе каждого человека этот предел, - основной не изменяющийся ни при каких обстоятельствах стержень, - его правда, его истина и вера, - когда его "да" - только "да", а "нет" - "нет". И пока человек не нашел этого в себе, он не должен быть в таких христианских группах. Тогда и он, и его друзья избегнут многих неприятностей и внутренних конфликтов. А дружить, общаться с людьми независимо от того, комсомольцы они или нет, почему же нельзя? Очень даже хорошо, только не надо их вводить в такие группы.
Попытаюсь, если смогу, ответить на начало твоего письма. Твои столкновения с преподавателями - просто встреча подростка с жизнью. Подростка, ищущего истины, смысла жизни. Такие конфликты переживали юноши и девушки всегда, начиная с первых веков до нашего времени. Не только молодежь, а любого возраста человек, стремящийся к добру, справедливости. Дело не в государственном строе, а в нравственном духовном устроении человека. В Евангелии сказано, что Иоанн Креститель на вопросы "что нам делать?" ответил мытарю: "ничего не требуйте более определённого вам", а воину: "никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем" (Лк 3.13,14). В Евангелии указано на необходимость внутреннего преобразования, т.е. борьбы с самим собой. Каждый остался на своём месте, но сам он должен стать другим, чтобы через него мог проходить Свет Нового Завета.
Выборы... - это гражданский долг, они не имеют отношения к мировоззрению. Выбирают все, хотя большинство знает, что это, собственно, не "выборы". Таков государственный строй в нашей стране, мы здесь живем и должны, как и все, выбирать, платить налоги, установленную квартплату, быть членами профсоюзов и т.д. Как и все, мы пользуемся техническими достижениями и благоустройством. Между прочим, мы пользуемся и законами нашей страны. Знаешь ли ты, во что превращается толпа людей, когда город остается вне закона? Мне пришлось это видеть: во время гражданской войны - при белых и при красных, и при подступах немцев к Москве. Во всех этих случаях люди вели себя одинаково - старались выжить за счёт жизни другого.
Но встречались и такие, которые при любых обстоятельствах не теряли человеческого облика. И тогда особенно ясно было видно, какое значение имеет в поведении человека его духовное, моральное и нравственное устроение.
На твой вопрос по поводу общего презрения и нелюбви к евреям я ответила, что в моей семье, и в особенности по отношению к себе, я этого не ощущала. Не знаю, почему, но я сказала неправду. Вероятно, подсознательно, мне не хотелось говорить на эту тему. Оставшись одна, я снова, по своему обыкновению, мысленно говорила с тобой и испугалась - почему же я сказала неправду?
Прошу, прости меня, я постараюсь исправить свою ошибку.
Постепенно возникли в моей памяти тяжёлые переживания, связанные с враждебным отношением к нашей нации.
Конечно, всякая еврейская семья испытывает эту неприязнь. Я лично меньше других, потому что внешне не была похожа на еврейку, а подруги мои были православными, и в их семьях вопрос о национальности не стоял. Впервые я поняла, что не могу быть наравне со всеми, когда поступила в гимназию. Мы, еврейки, не посещали уроков по Закону Божиему и не молились вместе со всеми, только молча присутствовали. Мне это причиняло боль, потому что в ту пору я уже знала и любила Христа. Случалось, что ко мне менялось отношение, когда узнавали, что я еврейка. Не стоит вспоминать. Расскажу только о том, что особенно запомнилось мне.
Когда мне было четырнадцать лет, во время гражданской войны, в город, где мы жили, вступили "белые". Начались погромы и избиения евреев. Мой отец был врачом, и мы укрылись в больнице, заразном отделении, которым он заведовал. Папа очень боялся за меня и поэтому послал меня в семью одного из своих очень хороших русских друзей. Он был уверен, что меня примут; но меня не приняли, даже не впустили в переднюю. Никогда не забуду выражения лица отца, когда я вернулась. Чудом Божиим мы остались живыми и невредимыми, но были на волосок от смерти.
Второе тяжёлое воспоминание - мне было 16-17 лет. Тогда я уже жила в Москве. У моей самой близкой подруги, у которой я часто бывала, отчим был ярым антисемитом. Он часто старался именно при мне как-то оскорбить, посмеяться над евреями. Я вся сжималась, холодела от тоски, не знала, как реагировать. Было и обидно, и страшно...
В Загорске у матушки никогда не было и признака неприязни к евреям. Она принимала и любила всех, кого посылал к ней Бог. Национальный вопрос не стоял. А вот у моей крёстной всегда был какой-то "такой" оттенок по отношению к евреям. Но я совершенно уверена, что, в случае нужды, она заступилась бы за них и всё бы сделала для их спасения.
Пожалуй, самое тяжелое для меня было общение с моими духовными сёстрами (духовные дети моего прежнего духовного отца). Многие из них не любили евреев. Относились к ним с оттенком брезгливости, как к чему-то нечистому. По моей внешности они и не предполагали, что я еврейка, и поэтому не стеснялись в выражениях, да еще рассчитывали на мое сочувствие к их взглядам! Я мучилась, не знала, что делать: сказать - неудобно, а молчать - ещё хуже, чувствуешь себя нечестной! И всё-таки я молчала.
Дня два тому назад мне пришлось ехать в трамвае. Там один пьяный с ненавистью говорил об евреях, ругался, выражал сожаление, что Гитлер не успел всех уничтожить. Он привязался к юноше явно еврейского происхождения. Что только не говорил он!.. Угрожал, выражал сожаление, что не может тут же убить его, осыпал грязными ругательствами. Никто не заступился, все молчали... Казалось, весь вагон был наполнен презрением и ненавистью к евреям.
И все-таки... Почему же я не ответила по правде на твой вопрос? А потому, что во мне нет протеста против такого отношения. Конечно, в каждом отдельном случае, я чувствую обиду, боль, страх, но возмущения или убеждения, что со мной поступают несправедливо, желания бороться за равенство - этого нет во мне. Я принимаю все это как должное. А как же иначе? Народ, в котором родилась Божия Матерь, воплотился Иисус Христос, жили апостолы, откуда впервые прозвучала Благая Весть Нового Завета, как он может не быть гонимым? Народ, который в общей своей массе не принял, не понял Христа, из которого вышел предатель Иуда, разве он не должен быть; презираемым ?
Многие евреи считают, что они принадлежат к избранной нации, потому что Господь называл израильский народ Своим с библейских времен. Избранность даром не дается. То, что именно на них, на протяжении многих веков, распространяется ненависть и презрение, разве это не подтверждает их особенную, кровную близость к Святому Семейству?
Когда я сталкиваюсь с ненавистью и презрением, конечно, я страдаю. В трамвае мне было так страшно и больно! Каждое слово этого пьяного типа буквально убивало меня, и ещё больше убивало равнодушное молчание всего вагона, набитого людьми. Молилась, и я чётко чувствовала (как всякий раз в подобных случаях), что если во мне вспыхнет протест, возмущение против такого отношения к евреям, я потеряю право на стремление быть как можно ближе к Иисусу Христу. Я думала о Его последнем, крестном пути. Как Его презирали, били, оскорбляли, убивали... Во время Розария мы часто говорим, что хотим быть рядом с Ним...
По воле Божией, я родилась еврейкой, и я должна пройти свой путь по Его воле, а не отказываться, добиваться лучшего, протестовать... И мне непонятны и чужды стремления уехать в Израиль, возмущения, борьба за равные права и т.д. Я часто думаю, что если бы евреи получили равные права - они бы потеряли, ох, как много они бы потеряли!!! Это особая милость Господа к Своему народу, что они неравноправны и, думаю, никогда, до самого конца мира, не будут равноправными.
Думаю о Евангельской притче: Лк 14. 8-11.
Последствия грехопадения, первородный грех - несёт на себе все человечество, весь мир в целом.
Предательство Иуды, отступничество Петра, требование всей толпы осуждения и смерти Иисуса - несёт Еврейский народ.
Горячим покаянием, таким же горячим, какой была его любовь к Иисусу, св. Петр искупил свой грех и получил Первоверховное Апостольство, сделался основанием Церкви.
Горячим покаянием и верой "благоразумный" разбойник первый вошел в Рай вместе с Христом...
Да, я принимаю как должное нелюбовь к евреям. И когда я испытываю и вижу эту враждебность и презрение к нашей нации - я молюсь, чтобы Господь, вместо обиды и протеста, послал - покаяние и любовь к Иисусу, как у апостола Петра, и покаяние и веру, какие были у разбойника...
В АФРИКЕ БОЛЬШИЕ КРОКОДИЛЫ
- Выпустили пятнадцать тысяч обормотов, - с усмешкой повествовал отец Александр, - они пишут возмущённые письма: почему правительство допускает демонстрации и забастовки, как газеты пропускают такую информацию. А работать по-настоящему не хотят и не умеют. То есть они готовы, как и у нас, по шесть часов отсиживать на казённых штанах...
- Плохое знание языка, вероятно, воспринимается там как увечье.
- И не только языка. Один наш эмигрант - мелкий актёр - приехал в Америку. Он собирался играть в Голливуде, и его обещали попробовать. Для начала он должен был пожить в одной американской семье. Иммигрантам дают такую возможность - для изучения языка, акклиматизации в стране. Однажды он пошел гулять и набрел на кладбище автомобилей - ещё вполне пригодных", брошенных, никому не нужных. Среди них был "Мерседес" - почти новый. Актёр сел в него. В машине оказался бензин, она поехала. Он решил прокатиться. Вскоре по дороге ему попался полицейский, который на его вопрос сказал, что он может взять машину себе. Но когда актёр подкатил на даровом "Мерседесе" к дому своих хозяев, он узнал, что тем самым его карьера в Америке кончилась, так как там взять автомобиль со свалки - всё равно, что у нас брать пищу из помойки. Он спешно погнал машину назад, но полицейский вежливо объяснил ему, что взять автомобиль отсюда можно бесплатно, а вот чтобы поставить - нужно заплатить пятьдесят долларов. В гневе актёр помчался в машине на побережье, где разбил её и сбросил в океан. Ему прислали штраф в пятьсот долларов - за загрязнение океана.
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
"На реках Вавилонских, тамо седяхом и плакахом, внегда помянути нам Сиона... Аще забуду тебе, Иерусалиме..."
- Отец Александр, убилась, - пожаловалась тетя Клава. - Думала, сердце выскочит.
Разные бутылки стояли у водосвятия, и легко было догадаться, какая кому принадлежит. Плоскую коньячную забрала пожилая полная, интеллигентная женщина. Смиренная, исполненная благоговения - флакончик из-под лекарств. А уж пустую бутылку из-под "Андроповки" (так народ прозвал отвратительную волку с ядовито-зелёной наклейкой) забрала, наполненную святой водой, простая деревенская тетка, у которой, наверное, пьющий муж или сын.
В храме было тихо и тепло. Служили панихидку по Иосифу и Надежде.
"Братие, не хощу вас не ведети о умерших, якоже и прочии, не имущии упования..."
Тетя Клава послушала и сказала:
- Когда помру - чтоб "Апостол" ты читал.
Я думал о моем народе и о том, что евреи в нем - как золотые нити в граните.
- Отчего русские так много пьют?
- От тоски по метафизике. В России скучно без Бога.
Среди учеников Иисуса, невидимый, ходил диавол.
Рыжебородый энтузиаст молодежных молитвенных групп создавал значки с христианской символикой и полублатными надписями типа: "Бог тебя любит", или "Старого нет, а теперь всё новое".
Он носил на поясе чёрные чётки католического образца с крупными ядрами деревянных косточек и посеребрённым распятием.
Была там ещё "Аллочка-динамистка", которая шила Брату штаны.
И "Володя-хиппарь", наставлявший юную балерину, которая, обратившись, оставила театр и мыла в химической лаборатории пробирки, в тонкостях христианства - пока она не родила ему ребенка.
Музыкант рассказывал о своей работе в церкви:
- Как и все советские служащие, я должен был что-нибудь таскать с работы домой. Я носил из алтаря ладан, дома поджигал и кайф ловил.
ПЛАЧ ПО КЛАВДИИ
(Рассказ моей сестры)
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей, новопреставленной Клавдии, и прости ей все согрешения, и возьми её в Твоё Небесное Царство.
5 февраля 87-го года. Моя затянувшаяся болезнь. Еще не расточилось счастливое чувство от недавнего посещения отца Александра - приезжал ко мне с Причастием. Снежный вечер. Тихо.
И: звонок. Норин. Седая фея - "колдуница" (Катино; Володя: "Фея - преображенная ведьма") - чарующе - на кончиках лап, коготки подобрав. Расспросы ее, мои ответы. И - уже разговор исчерпывается; и я - о том, что соскучилась по старушкам нашим в Деревне.
Нора:
- Да, ты знаешь, что Клава умерла?
Столбняк. Холодея:
- Какая? - предчувствуя - что раз умерла, то из двух Клав - конечно - та, более дорогая сердцу.
- Большая. - (Припечатывая.) - Березина.
- Господи! Когда? - (крещусь, переложив в левую руку трубку).
- В начале зимы, в ноябре.
(Клава, несколько лет назад, - моему брату, только что вернувшемуся, с "Апостолом" в руках, после чтения - строго:
- Когда помру, будешь мне "Апостол" читать. Я люблю, как ты читаешь. Смотри, не пропусти.)
И я, всё реже бывая в Деревне, всякий раз, от дверей - ухом: слышен в тепло-дрожащем (как свечное пламя) хоре клироса басовитый, особенную партию выводящий, который ни с каким другим не спутаешь, голос? И - крестилась благодарно, со вздохом - тут тетя Клава. Пока она тут - всё на месте; ничего нашему храму и всем живущим в нём не сделается.
...Давно всё это стало зыбко. И жизнь живущих в нём, и жизнь здания (вот-вот сковырнут вместе с затесавшейся меж белых башен деревней), и - уж тем паче - жизнь старушек.
Но на старушках-то всё и - держалось, и посейчас на последних старушках - держится. Невидимая опора - в немощных, старых, с палочками, с давлением, еле двигающих ноги, еле дребезжащих (но никогда не фальшивящих; переходящих, по мере старения голосов - на ярус ниже: с сопрано к альту, а тетя Клава - и к тенору - кенару (об кенаре - особо! Мария Николаевна, чтение её).
Зыбкость. Приедешь в полгода раз, удостоверишься ухом: тут тетя Клава; обрадуешься; после службы подойдёшь здороваться и вдруг видишь - появилась палка. Но не было никакой палки раньше! Кольнёт в сердце: ах, время идёт, старушки стареют - хоть и уже - старушки, вечные старушки - но динамика - движение - старения - стремит их, они ускользают; немного, может быть, осталось встречаться - тут. За ними не утонишься! (Скок - в смерть, а ты - тут, с растерянными руками.)
"Помру скоро", - ещё через год, с уже - всегдашней палкой, но лицо неизменное, загорелое (огород!), только глаза (белки) помутнели, пожелтели.
- Видно, помирать этим годом.
- Что вы, тетя Клава, вы нас переживете - теперь молодежь хилая, а вы - вон на все службы ходите - столько лет, стоя.
- И стоять тяжело стало. Да и хожу с трудом. Ноги...
Я свято не верила, что это "помру скоро" будет скоро, но знание, что когда-нибудь же будет - щемило сердце и заставляло всякий раз - уже привычно от дверей навострять уши. И если её нет вдруг - пробравшись на клирос:
- А где тетя Клава? - (самым будничным простым голосом: род неосознанного колдовства, заклинания - не накликать тревогою в вопросе - страшный ответ).
- Заболела, а в воскресенье была, - (фу, отлегло!) ответ так же будничен (болеют они часто - то болеют, то в храме, и это какое-то вечное, вечно-спокойное равновесие, незыблемость - при всей зыбкости).
Кто же читал ей "Апостол"?
...И после этого ее "помру скоро" прошло два или три года. И я совсем успокоилась...
(Так же как когда-то, за год до своей смерти, Елена Александровна мне сон рассказывала: будто отец Александр у неё в доме моет пол - что, как она решила, - к смерти, и - предчувствовала, болела, ждала - я уговаривала - и уговорила - на год лишь. Может быть, не успокоилась бы - ещё бы побыла она здесь.)
Жаль! Ей, конечно, хорошо теперь, а нас - жаль, нам без неё - пусто. (Как и без Елены Александровны, и Елены Семёновны - тех, кто близко вошел в сердце.)
- А похоронили где, у нас в Деревне?
- Конечно...
- А как она умерла?
- Так - умерла...
(Наверное, просто.)
Тетя Клава - на венчаниях! Их, знающих "Положил еси на главах их венцы" и "Исайя, ликуй", - немного, всякий раз две-три, одна из них Клава. Строгость, (До пения - строгость на меня: "Не подведи! Не знаешь - не вылезай, помолчи, а поймёшь - так пой, а то нас двое"). Киваю, порядок известный.
И - ответственный миг - самое трудное: где молодые спотыкаются, а чаще просто не знают напев, а нот - не водится, или, если есть, поётся самостийно, самостихийно, мимо (сквозь) нот, следить можно лишь слова. И - "Положил еси на главах их венцы... от каменей честных... и дал еси им!". Трижды. На второй, третий раз - смелею - и тяну. Отпели - переглядываемся, а Клава обязательно за руку возьмет крепко:
- Молодец!
Всегда мне хотелось перенять её манеру строить гармонию - она подпирает весь хор снизу - одна, как нижний регистр органа, и хор - если и есть в нём два дребезжащих сопрано - звучит основательно, как хор, и звучит хоралом, органно. Но ходы, какими она ходит, - иной раз непредсказуемы. Думаешь - всё поняла (наконец!) - вжилась, сейчас догадаюсь, знаю - и неожиданно тети Клавин, особенно тёплый, трогательный (до слёз!) или строгий, молитвенный поворот - (а с ним и оборот, слегка, глаз в мою сторону: "Слышала? Не на всё закон") - парадоксальные эти мелодические движения - так и не изучила, может быть, и не было в них закономерности. Была - тетя Клава, живая, строго-трогательная, трогательно-строгая, которую хотелось всегда обнять, - и пение было - тети Клавино, уникальное, неповторимое; теперь, с её смертью, навсегда потерянное.
Я сразу почувствовала: чтобы научиться у тёти Клавы (именно: не партии тенора, а - у тети Клавы), надо в неё вжиться, впиться - и вставала рядом, держала за руку - или под локоть, и так, бок к боку, и в меня тетя Клава входила - и через уши, и - этим боком, и рукою - рукою в руку, плотью в плоть. Голос был - голосоведение --- плоть её, а мне надо было (надо, это знала я, ибо знала, что когда-нибудь не будет возможности прижаться к боку и руку взять в руку) это перенять, этому - внять, понять - до глубины - из глубины. Чему-то я научилась (слава Богу, успелось, прижилось; это - привитие, что-то другое, чем научение), но - не тем, именно особо Клавиным гармоническим ходам. (Смелы: то вдруг возьмёт неожиданно огромный - сексту - интервал, где не ждёшь его; и от этого слезы наворачиваются на глаза, и - восхищаешься ею, а она - строго, зная, что делает. - ведёт дальше). Вела - одна; когда-то была еще Мария Николаевна - но о ней особый, отдельный рассказ. Вела - одна, потому что этот - поверхностному уху почти и не слышный голос - самый сложный, и мало кто способен вести его. Он не повторяет мелодию, как сопрано. Он составляет гармоническую основу четырёхголосия; без него звучит либо плоская - без глубины - терция, либо (коли есть, вдруг, роскошь мужского баса) - между плоской этой терцией и басом - пропасть, дыра, которую - слышно. А "кенар" - заполнение огромной разницы меж сопранным дребезжанием и низким, обертональным басом.
И без баса, тётя Клава всю глубину звучания брала на себя. Послушает её близко новенькая певичка - и отодвинется: поёт бабка каким-то басом, не то, что все, сбивает с мелодии! Тетя Клава и это, думаю, видела - и спокойно и скромно делала свое дело. Она была - мастер, как редкостный ювелир, или зодчий, или строитель органа - который знает, что делает, и знает, что это другим не обязательно очевидно (высота его искусства), но - знает цену своему умению, и - незримо трудится - не ставя подписи под своим творением.
У нас иной раз хвалили - чей-то звонкий такой голос (из высоких). Но это - повторение мелодии, деря глотку, - элементарнее, чем незаметно, не всем слышно, не выделяясь, но гармонизируя общее звучание, от каждой ноты строить "орган". Это сложное творчество, требующее свободы, полной освоенности в контексте четырёхголосия. Думаю, у тёти Клавы были и импровизации, от сердца идущие; а сердце её было неизменчиво, и я чувствовала и любила "тёти-Клавин гармонический строй". Такие люди редчайши.
Она и рассказала мне о нашей церкви, как везли её через всю деревню на лошадях - на подводах, как начали, помолясь, покропив бревна, возводить...
- И вы помните?
- А как же, мне тогда восемь лет было. - (22-й год.)
Я, Кате:
- Слушай, Катя, как нашу церковь везли; да слушаешь ли ты? Тетя Клава тогда была - девочка, стояла тут и глядела...
- И звёздный купол, и с лестницею - крест воздвигали. Помню, как первый раз ударил колокол...
Она и пела здесь с восьми лет - быть может, и раньше, в селе Пушкине, - но тут - с самого устроения храма.
"И наш храм никогда не закрывался. Здесь всегда служили".
"Я ещё девчонкой была".
Лицо у неё похоже на грецкий орех - темное, морщины глубокие, давние. Сквозь очки - глаза, трогательные - строгие и - готовые заплакать (не плачущие никогда). А строгость и к слезам готовность - знание скорби мира.
Мечта: прийти к ней на могилу - видится: уже тепло, трава (весна, может быть?) - посидеть (с Володей!), и - обязательно выпить (спирт или водку). У неё, у тёти Клавы - надо выпить, помянуть её. Тем утешаюсь.
После написанного.
Великий пост, тёмный, исчерна (черные платы и платки) храм. До Пасхи ещё далеко, и от начала Поста далеко - глубь поста. "Господи и Владыко живота..." И - трое выходят - спускаются по двум клиросным ступенькам, - в центр Церкви, перед закрытыми львиноголовыми царскими вратами, чёрной завесой изнутри задёрнутыми (золотом по чёрному). И - в тишине (пока шли, спускались, стали - тишь, сущее молчание) - "Да исправится молитва моя..." Тётя Клава большая, тётя Клава маленькая и - кто-нибудь третий, раньше - несравненная чтица Марья Николаевна, в последние годы - какая-нибудь третья старушка.
На "молитва" - тёти-Клавино - октаву вниз - и сердце падает с нею, и замирает, и обливается слезами - "моя" - тёти-Клавино в протяжении слогов - медленно выводит - одна, на тянущейся ноте - выводит ступеньки, лесенки своей партии, и - до начала "яко кадило" - в молчании её одинокий, строго-скорбный и торжественный голос озвучивает первую ноту, на которую наслаивается жалостная, звенящая дребезгом терция двух верхних голосов - Клавы маленькой и другой, безымянной старушки.
Я - знаю уже и эту тишину, и как тётя Клава в паузе между "моя" и "яко" - одна - одиноко возьмет где-то внизу, в самой глубине - ниже не бывает, - из нутра мира - ноту, - и заранее, когда они идут к вратам, - начинаю стараться не плакать. И - смотрю, как они поют, и от этого старания и смотрения глаза выворачиваются из орбит, а моргнуть - слезу спугнуть, поползет по щеке: стыдно. Не мигаю, застываю, и в горле тот самый - многократно в книгах описанный - ком, и - не дышится - пока не запоют "Утренюет бо дух мой" - только тут и можно (слегка!) перевести (отвести) - дыхание и моргнуть (и сморгнуть) - и - с новым вдохом и взором, с телом - абсолютно деревянным, застывшим - внимать, внимать до самых детски-немецких? итальянских? (почти из "любезного пастушка"), но воспринимающихся простонародными, просто - народными, деревенскими, в конце, пассажей - "Но, яко щедр, очисти".
Возвращаются и встают: мы - все оставшиеся скрытыми за хоругвями и огромной иконой клироса - встречаем; без слов - глазами; или - за плечи обнимаем - как после долгого пути. Встреча - всякий раз, как и провожанье - к алтарным вратам, на пение
"Да исправится" - взглядом, "с Богом"; каждый раз это - рискованное (ответственность!) пение, не пение - делание, служение - пред людьми и Богом. И мы, остающиеся - и провожаем, и ждем обратно - как из морского плавания, из опасного путешествия - и благословляем всякий раз, и - пока идут, выходят - нет, до выхода - за них переживаем; а как пойдут, встанут, раскроют двойной нотный лист (зачем? ведь знают всё наизусть; впрочем - текст: а вдруг - собьешься...) - уж не до волнения: застылость, глаза, ком - всё внутри - неподвижность, предел напряжения, предел, который любое движение (хоть волнение тоже род движения, суеты души) - разрядить могло бы, спугнуть, сломать. А когда вернулись - ох, хочется дышать, вздыхать, обнять - да нельзя: служба идёт далее, нам - петь дальше, или- кланяться со священником, со всем храмом, со всем миром.
И вот, тётя Клава однажды, после такого возвращения, - об отце Александре (что-то тёплое им сказавшем) - мне:
- Ну, его. Петь не могла - смотрит на меня своими чёрными глазищами...
А я знала - не смотреть - не мог, наверно, всегда смотрел - в том же столбняке, как я и как весь храм - только она - вдруг, чрез столько лет - во время пения - заметила - смотрела, может быть, в тот раз обычными глазами, не - внутрь, вглубь, так что ничего и никого, - туда, откуда извлекала глубокие свои, глубинные ноты.
"Своими чёрными глазищами". Думал ли он тогда, смотря, - что когда-нибудь её не станет, и - как дорога она - драгоценна душой, выпевающей ТАКОЕ? Может быть... Или - глаза его были - изумление: вот она какая, вот оно какое, и что же это она делает, может делать, власть имеет делать - над душами - над ним, над всеми его детьми - учёными и неучеными, погрязшими и праведными, новенькими и теми, кто много лет слушает эти слова в исчерна-темном храме; бессловесная (словом известным, не - её) - тем, как она слово выпевает.
Наверное, смотрел - на всех, переводя взгляд, - он, слышавший за десятилетия этот распев - с тою же мелодией - другими, в других храмах - а тётю Клаву сжигал угольным взглядом - поняв, отчего здесь, этими старушками, петый напев так пронзительно ранит сердце - как и должно сердцу быть раненным в дни скорби о страстях - скорбью о раненом злом мире.
Если б меня когда-нибудь спросили: как это - "берет за сердце"? - я сказала бы: приезжайте Великим постом в нашу Деревню и послушайте старушкино пение; особенно когда три старушки в тишине выйдут пред алтарные врата, раскроют вдвое сложенный нотный листок и запоют. И когда в первой паузе сначала вступит одна из них - таким низким, очень низким голосом в тишине, и лишь потом вступят другие две, - тогда вы и сами поймете, что это такое. Вы физически, сердцем - почувствуете - что оно взято - и не ваше - в чьи-то руки, и вам жаль будет, когда пойдете по талому снегу от храма - что оно снова - ваше, ничье, не чувствуемое вами (раз не болит - и не чувствуется, будто не существует - не напоминает о себе). И вы навсегда сохраните память и тоску по той тесноте и шири (сердцу тесно в сердце!), которой было оно томимо в исчерна-тёмном, в преддверии красной ясности, нашем храме.
А тетя Клава, верно, и теперь поёт в небесном хоре - может быть, девчоночьим каким-нибудь, восьмилетним своим голосом... Что поет - это знаю наверное, ибо пение было - вся её жизнь.
Нынешний пост, храм - уже без тети Клавы; и Клавы маленькой нет (больна). Меня выпихивают петь "Да исправится", альтом, дав нотный истрёпанный листок (некому больше). Поём - на средине храма, втроем: маленькая Соня, Наташа деревенская, я. Пою и вижу, что ноты не годятся: они, видимо, были не списаны - срисованы кем-то очень старательно, но приблизительно. Пою - памятуя о Клаве, её как бы голосом, в нотах читая только слова.
УМИЛЕНИЕ
Отзвонив в колокола, мы с сестрой спустились с колокольни.
- Отец Александр, какие ваши ребята молодцы, - сказала староста. - Наши русские так не могут.
УЛЫБКА ФОРТУНЫ
- Загорску ещё повезло, что у революционера оказалась такая красивая фамилия - Загорский, - сказал по дороге на станцию отец Александр. - А то был бы какой-нибудь Поросёнков.
Поезд подкатил зелёной ящерицей пригородных вагонов.
- Пойдём туда, где грохочет, - сказал отец Александр, - там свободнее.
Часть четвертая
ВОЛЧИЙ ХЛЕБ
ПРОБУЖДЕНИЕ
Легко быть праведным тому, кто занят делом. Есть два пути к обретению счастья - удовольствие и истинный путь.
Стоит просыпаться на рассвете хотя бы для того, чтобы ощутить капитанскую свежесть обжигающего лицо одеколона.
Желание утром нырнуть поскорее обратно в постель, в тепло понятно - утренняя душа остро чувствует свою незащищенность перед холодным враждебным миром. Это подобно скрытому инфантильному влечению в материнское лоно, которое, по Фрейду, вообще лежит в основе влечения мужчины к женщине.
Фрейдизм мог зародиться в Австрии, с её мягким, умеренным климатом, располагающим к обыденной, прикрытой приличием эротике. Попал бы Фрейд в ваши российские условия, где всё себе поотморозишь - не до секса! - пока-то отойдёшь в избе, за печкой. А в латиноамериканских странах, не говоря уже о каких-нибудь папуасах, Фрейда подняли бы на смех: тоже - открыл Америку. Конечно, его учение не было бы откровением для них, как для цивилизованного саксонского мира. Он бы ещё пошел в обезьяний питомник свой фрейдизм проповедовать!
За завтраком мне вспоминался Ленин, который говорил:
- Мы твердокаменные марксисты, и у нас крепкие желудки, и мы переварим всех этих сомневающихся!
ГРАФ
Зима в тот год была свирепая, много деревьев помёрзло с корней. Москва напряглась, упёрлась носами в воротники.
Еды в магазинах не было, одни рыбные консервы стояли, отсвечивая цинковой белизной, в колбасных и мясных отделах, что мерещилось предвестием новых, небывалых бед.
- Говорят, подморозит, - сказал мне в лифте граф Бодрово-Велигурский (в миру - Альберт Степаныч, или просто "Лёлик").
- А я как раз в командировку собрался.
- Далеко?
- В Пензу.
- А, в Тарханы?
- Нет, на родину Замойского.
- А-а... Сынок его, значит, в Париже, а ты - в Пензу? Несправедливо.
О какой справедливости тут говорить, подумал я, снимая тулуп. Ведь и вы, граф, не в лучшем положении.
Делая доклад на политзанятии, он сказал: "Брежнева", но потом поправился: "Леонидильичабрежнева".
Впрочем, все в конце концов приучились произносить скороговоркой полное имя:
- В новой мудрой книге товарища Леонидоильичабрежнева...
В райисполкоме дрались из-за книги "Целина".
Писатель Евгений Иванович Осетров называл Велигурского: "Чего Изволите?"
РАВНИНА
Райкомовская дама стояла, опершись промежностью об угол стола.
На щитке в кабине "козлика" были переводные картинки - женские лица в кружевных овалах: какая-то улыбчивая мулатка, строгая задумчивая русая шатенка западноевропейского образца, приветливая брюнетка. В картинках этих не было эротики, а скорее ожидание уюта и тепла - того, что называется мещанством, - все эти фарфоровые чашечки да рюшечки, всё то, чего давно уже нет, и то, что удерживает людей от озверения, привязывая их к земле.
У тракториста в кабине тоже были картинки - чёрно-белые открытки с женскими лицами, но уже спокойнее, в мягких тонах - портреты советских киноактрис.
Бился в окна, тряс стекла, льдом налипал степной буранный ветер. Трезвон стоял от сосулек, колеблемых вихрем. Лохмато-снежная, муторная ночь мигала глазами фонарей. По потолку метались тени, как будто, спутав времена, вновь подступали к городку лихие банды, вынырнув из метельной тьмы. И совершенной нереальностью была Москва, где валила толпа, крутились двери метро и горели, чуть слышно потрескивая, росчерки реклам, где пили кофе и говорили обо всём.
Колокола в жестяном рупоре отбили полночь. Считалось, что куранты играют "Интернационал", а на самом деле - ничего похожего. Поначалу, ещё при царизме, они исполняли "Коль славен". Затем, после красногвардейского штурма Кремля, когда снаряд угодил в Спасскую башню, часы замолкли. Починить их взялся известный художник-плакатист Черемных, получивший в награду полфунта воблы и мешок пшена. И стали они вызванивать никому не ведомый мотив, который принято было считать мелодией пролетарского гимна.
Оркестр грянул бессловесный, после хрущевских разоблачений, гимн моей родины. Как говорил один старик, "раньше гимн пели, а теперь - только мимикой".
Вспомнился рассказ Виталия Шпагина, как Сталин вызвал к себе творцов этих, теперь уже забытых, слов и спросил, какую награду они желают получить. Эль-Регистан стал перечислять: дачу, машину, что-то еще - боясь, как бы чего не упустить. Вождь усмехнулся, как ему и положено, в усы, раскурил каноническую трубку и спросил, хитро прищурясь:
- А вам, товарищ Михалков?
- А мне бы, - скромно ответил создатель "Дяди Стёпы", - только ручку - которой вы подписываете сталинские премии.
И, конечно, получил всё и даже сверх того, что запросил его простоватый соавтор.
Прощупывать меня Шпагин начал во время первой же моей поездки с группой писателей в Талдом. Шли дожди, и все боялись, как я опишу это природное явление. Но мой репортаж был этюдом оптимизма: "Дождливое это лето взметнуло могучие травы, иззеленило всё вокруг".
То, что рабочие и крестьяне произносили, запинаясь, по бумажке заготовленные для них партработниками речи, меня не смущало. Хуже было бы, если бы они говорили всё это искренне, от себя.
Писателей и мелкое начальство ждал у "дома Ростовых" вилобокий московский автобус, куда мы и погрузились вдвоем с подтянутым, спортивного вида фотокорреспондентом.
- Михалков говорит: "Съезжу за б...", - доверительно шепнул мне на ухо Шпагин, дыша ароматическими веществами: мужским одеколоном, зубной пастой "Поморин", лосьоном после бритья.
Живой классик, действительно, сел в свой небольшой автомобиль, хряпнув дверцей, и укатил, вернувшись вскоре с довольно юной, томной и несколько вздрюченной девицей с полной грудью и капризными губами.
Я намертво держался, и оборвать мне руки было нечем - я не давал на себя показаний. А смутные подозрения, что называется, ещё не повод для знакомства.
(Рожон - наконечник копья. Потому и говорят: не лезь на рожон. И: какого рожна.)
Я всё время скрывался, таил свое "я". В этом был элемент смирения и сознания малости моих познаний, была и неуверенность в своей правоте, неустойчивость мировоззрения, желание увидеть шире, принять чужие точки зрения. Скромность оберегает от громких ошибок. Но нельзя забывать своё, забвение - ложь.
КОНСЕРВАТОР
Очерк Ильи Ветрогонова назывался "Калязин".
- В городе Калязине, - сказал Караванов, - нас девчонки сглазили. А если б нас не сглазили, то мы бы с них не слазили.
Заместитель ответственного секретаря "Литературной России" славился своим цинизмом и реакционностью и гордился дружбой с цензором обеих соседствующих газет Николаем Ивановичем Дудолиным, которого дружески шпынял:
- Военный цензор говорит, что ты консерватор, - подтрунивал, бывалоча, цокая гнилым зубом, Володька Караванов.
- А мне военный цензор - не указ, - ничуть не смущаясь, а даже с пафосом ответствовал круглолицый, добродушный Николай Иванович и упорно заменяя "корабли" в моей заметке на "суда", дабы не вводить противника в искушение:
- Корабль, - говаривал он, - военный термин.
- Хочу я книгу написать, - сказал однажды Караванов, - да, боюсь, не пропустят: как разложили одну хорошую хоккейную команду.
Ещё Караванов рассказывал, как брали Будённого.
Ночью оцепили дачу. А у маршала на чердаке стоял пулемет "максим", еще с гражданской войны. Командующий Первой конной подтащил "максима" к слуховому окошку и открыл огонь. Как выразился Караванов, "наши залегли". А Будённый по прямому проводу вызвал Сталина:
- Иосиф Виссарионович, брать меня пришли!
- Ну, а ты что?
- Отстреливаюсь!
Вождь немного подумал, потом спрашивает:
- Минут сорок продержишься?
- Продержусь.
- Хорошо, я им скажу...
Через сорок минут подоспел приказ чекистам, и они отступились.
- А пулемёт ты все-таки сдай, - посоветовал Сталин Будённому при встрече.
Рассказывая, Караванов успевал просматривать гранки, ковыряться спичкой в ухе, да ещё норовил ухватить за задницу рыженькую сдобную Женечку из отдела писем.
Умер он ужасно. Поехал в Калинин в командировку. Там в гостинице ему, видно, стало плохо с сердцем. И он три дня пролежал мёртвый в запертом номере (уборщицы не беспокоили - он сказал, что будет работать). И все, даже те, кто ненавидел Караванова, прониклись его последней мукой, словно смерть омыла и высветлила его.
ЕЛАБУГА
Теплоход обступала необъятная Кама. Трепался, выстреливая искрами волн, красно-зелёный флаг речного флота. Смеркалось. В рубке меланхолично поворачивал рулевое колесо капитан, одолевая жестяную рябь воды. Насвистывал, вовсю разгуливал по верхней палубе почуявший открытое пространство ветер. И на душе устанавливался тот покой и лад, который всегда наступает при странствиях по глади воды. И ровный гул мотора вселял уверенность, что всё идёт как надо. С берега изумрудными светлячками глядели сигнальные огни. Китовыми тушами проползали баржи-сухогрузы.
Из темноты возник причал, высвеченный гирляндами ламп. Я прошёл по пружинистым сходням и ступил на песок, плоский и влажный, прибитый волнами, перенявший у них свой рельеф, и направился к городу, маячившему у большой воды.
Плыли по сторонам булыжной улицы двухэтажные дома-корабли, загадочные деревянные лестницы со скрипучими перилами. Портреты родных в освещённых окнах - тех, кто далеко или умер, - как надежда на встречу.
В окна смотрели ветви берёз с гроздьями меченых осенью листьев. Словно облитый глазурью, голубел неземным сиянием - лунным ли? звёздным? или отблесками фонарей? - гигантский двуглавый собор. Увесисто, словно утверждая незыблемость земного бытия, стояли склады - бывшие лабазы.
В проеме калитки виднелся женский силуэт.
Марина?
Её призрак, дух её мятущийся, истончённая её душа мнились мне на улицах Елабуги как зримая реальность, как то единственное, чем отмечен город, как его духовная печать, как прощальный поцелуй на лбу.
И над всем этим стоял горьковато-сладкий запах дыма, левкоев и прелой листвы.
РУССКОЕ ПОЛЕ
- Что же вы посевы так запустили? - спросил председатель соседнего колхоза, проезжая со мной по унылым нивам. - Сечь вас надо!
- Надо бы посечь, - охотно согласилась крестьянка.
ПИСАТЕЛЬ
- He самый плохой писатель с тобой разговаривает - член правления, - сказал маленький пьяный косоглазый Ольгерд Кучумов.
- Да я верю, - сказал Конюшин, а потом, когда тот отошел, добавил сквозь зубы:- нацмен, б...
Конюшин был наш бич. Родом из-под Курска, он приходился заму главного земляком и то и дело появлялся в начальственном кабинете, после чего оттуда поступала отвергнутая нами накануне рукопись с благодушным росчерком: "Срочно в номер". Делать нечего, приходилось переписывать заново очередной графоманский шедевр Константина Николаевича, который гранками и полосами нимало не интересовался, а приходил сразу за гонораром. Его особенно возмущала необходимость давать ссылки и проверять факты и цитаты. Ссылок у Конюшина отродясь не бывало, а цитаты и факты он безбожно перевирал. Во всём видел происки евреев, особенно в деятельности бюро проверки, которым заведовала злая, как саранча, девица Заменгоф.
Конюшин рассказывал о своей дружбе с Шукшиным, как они ночью шли по улице Горького босиком и пели песню, как к ним пристал милиционер, и они, обругав его матом, бежали километров пять, пока тот, в сапогах, не отстал. Он это называл - ответить по-русски.
- Ну, как дела? - спросил меня Конюшин.
- Ничего. В командировку вот собираюсь.
- Далёко?
- В Пензу, на родину Замойского.
- А, это хорошо, надо, надо крестьянских писателей подымать. А то вишь как теперь, топчи, говорят, русскую культуру, дави её, понимаешь, души, под корень режь. Нет, брат, шалишь!.. Картер скотина, - сказал Конюшин глухо, поглядев по сторонам.- У нас, говорит, особые отношения с Израилем. Видал, какой гусь, а? Особые у него отношения! - И добавил на ухо: - Да, а ты не слышал, кого американцы на Луне встретили? Ну! Николая Угодника, Божью Матерь, ангелов! Точно тебе говорю - по радио передавали. И все, как вернулись на Землю, в монастырь подались. Вот ведь какая штука, брат! Ну, пока, я пошёл, - пожал мне руку и, подхватив свой клеёнчатый портфельчик, двинулся к выходу.
ЗЯБЬ
Чем страшны колхозные крестьяне? Тем, что они - неверующие. Земледелец, не связанный с мистикой земли и неба, вырождается в машину, сельскохозяйственную машину. Даже язычество очеловечивало бы их. А ведь были когда-то - "хрестьяне"...
Трактористка с рублеными фразами. Она говорила лозунгами из районной газеты, словно не было у неё живой души, словно заводная машина сидела передо мной, увешанная орденами. В сенцах, в красном углу, помещался вышитый крестиком по льняному полотну портрет Ленина в киоте с петухами. А в сельсовете мы с местной властью пили самогон, закусывая его нежной, как пастила, поросячьей печенью и солёными огурцами. Пройти к дому трактористки было непросто. Дали мне в качестве транспорта кирзовые сапоги. Контрастом был её захмелевший муж-скотник, выражавшийся хотя и матерно, но вполне гуманитарно. Серебристо сияли иконы в доме матери партработника Ивана Спиридоновича, приставленного ко мне.
ТАЙНА СТАРОЙ КРЕПОСТИ
Владимир Беляев написал "Тайну старой крепости". Он был рыхлый, рябой, с лицом, осыпающимся, как мешок крахмала, покрытым цветными пятнами. Публике в зале он рассказывал, как его в Ленинграде, в блокаду подобрал матрос - увидел билет Союза писателей: "Да это же автор "Старой крепости"!" - и поэтому спас - вместе с товарищами отнес в близстоящий роддом (правда ли это, не знаю; Беляев цитировал выданную ему там справку: "Роженица Беляев В.П. ..."), а пограничникам - как он конвоировал бендеровку, решившую отдаться ему напоследок, и ещё - как ловили врага, спрятанного в ящике с дипломатической почтой: тыкали потихоньку ножичками, покуда он не заорал.
Бендеровке за откровенные показания обещали жизнь, как и её любовнику. Всех вместе потом расстреляли.
Она была необыкновенно красивой. Не стесняясь, села оправляться перед Беляевым - ей было всё равно.
"МЕТРОПОЛЬ"
Обеспокоенный слухами главный редактор велел мне срочно раздобыть и дать в номер любую информацию о новостях писателей столицы.
Шмелем гуднул красивый бархатистый гудок.
Выслушав меня, партийно-литературный начальник Кобенко по-черному, по-окопному выругался матом и сказал:
- Мне бы, б..., его заботы!
Мне косвенно донесли, что в Московской писательской организации идет скандал из-за каких-то политических дел и все с ума сходят.
(Вышел полуподпольный сборник "Метрополь".)
События для прессы срочно придумали - совещание литераторов-орденоносцев и что-то ещё.
Видрашку потом говорил Марку Соболю:
- На фоне этих засранцев из "Метрополя" мы выглядели как выполнившие правительственное задание.
И все мы понимали, что все эти заседания - понтяра, чтобы заткнуть "Метрополь".
- А кто вручал?
- Сам Брежнев.
- Когда мне дадут, мокнем.
- Теперь уж скоро.
И "Знак Почета" сановного поэта - моего земляка - был, конечно, пустой жестянкой, вроде собачьего номерка.
РАЗДОЛЬЕ
- Хорошие вещи не печатают, - пожаловался Дмитрий Жуков.
- А вы пишите плохие, - посоветовал я ему.
(Участие в любом движении даёт человеку энтузиазм. Причем какое именно это движение - совершенно не важно.)
Шабаш "русистов" в Знаменском соборе. Собрался весь паноптикум: Валентин Сорокин, Егор Исаев и Юрий Кузнецов с палочкой, Михаил Львов. Звали Русь к топору. Дмитрий Жуков сидел в алтаре, рассказывал, как после окончания Института военных переводчиков, с 1944 по 1960-й год служил... "неважно, где". Под завязку пришёл Илья Глазунов и подарил имениннику посмертную маску Достоевского - белый гипс на чёрной доске.
Там же была выставка Константина Васильева: дегенеративный Алёша Попович, белокурые бестии с мечами, колдуны с совами.
Хор пел: "Славься ты, славься, советский..." - или "русский"? - ах, да, ну, конечно, "наш русский народ".
Как есть живая и мертвая вода, так есть животворящий Святый Дух - лицо триипостасной Троицы, и есть мертвоносный дух язычества, магия и многобожие. Современные нехристианские националисты пытаются возродить именно этот мертвящий дух.
Важную роль в идеологии национал-большевизма сыграл граф Алексей Николаевич Толстой - автор очерка "Русские люди". И - Михаил Николаевич Алексеев.
- С вами говорит Герой Социалистического труда, лауреат государственных премий, главный редактор журнала "Москва" Михаил Николаевич Алексеев, - сказал в трубку хозяин кабинета ласковым высоким голоском.
Всё здесь было .странно и мертвенно, словно вытащено из довоенных времен: лампа с точёным деревянным стояком, мраморное пресс-папье, тяжёлый телефон, пыльные бархатные шторы. Стол был расположен так, что свет от окна падал справа. Хозяин сидел в пружинном вытертом кресле, обшитом древним дерматином, с фигурными шляпками гвоздей. В угол был задвинут гардероб с толстыми зеленоватыми стеклами. Хозяин, мягкий, улыбчатый, сложил руки калачиком. Ему было приятно, что я из "Литературной России". От магнитофона он опасливо отмахнулся:
- Ну её, эту технику. Мы лучше так побеседуем. А если что, я потом исправлю.
- Вашему журналу исполнилось десять лет...
Он был певец голосистого раздолья, автор романов с душистыми, ярыми, хмельными именами.
(- Какова твоя душа, таков и мир, - сказал мой друг. Он сказал об этом в связи с "Протоколами сионских мудрецов".
- Там выходит, что и февральскую революцию подстроили масоны.)
Они пытаются оживить мёртвое тело, гальванизируют труп. Отсюда и панно "Языческие музыканты" на алтарной преграде, и хор "Славься", особенно позорный после речи Сталина о русском народе.
- Все звёзды, Володенька, одинаковы - пятиконечные, шестиконечные, - сказал мне отец Александр. - Мы не должны уподобляться бесноватым, живущим во гробах.
"Его нет здесь - Он воскрес".
ИСТОКИ
Главным художником в "Литроссии" работал сын старого рабочего-партийца, найдёныш-еврей, родившийся в Китае, беззубый трубач.
А главный редактор был костромской, из крестьян, революцию понимал как народную стихию, волю партии - как концентрат народной мудрости. Когда-то он заведовал литературным отделом "Правды".
ОТРЫВ
Михаил Иванович Глинка эмигрировал.
Переехав русскую границу, композитор повернулся на восток и трижды плюнул в сторону России.
Через несколько дней он умер в провинциальной немецкой гостинице.
ИРАНСКОЕ ЛОТО
- Сыграем в иранское лото? - предложил Амиров. - На шаха - когда его скинут.
Амиров бравировал своим садизмом, как Караванов - реакционностью. Любимые выражения у него были: "оберпалач" и "у нас была надежда на Пол Пота".
LINGUISTIC STUDIES
- Галь, поди сюда!
Тетка оглаживала со всех сторон полученное из чистки зелёное шерстяное платье. Они вместе водили пальцем по ткани, видно, на месте пятна, всякий раз вырисовывая контур довольно-таки объёмистой лунообразной задницы, и я все думал: на что же это она так ловко села, что вся задница пропечаталась? Пятен не было, как они ни вертели платье, не веря, видно, своим глазам.
Хозяйка платья была крепко забронирована кремом-гримом, в седом напудренном парике под соболиной шапкой. А подруга - так, ничего. Подруга - и всё тут.
Ещё мне подумалось, что обладание вещью доставляет, должно быть, тем, кого называют мещанами, - то есть практически всему населению Советского Союза, - эстетическую радость, сравнимую с наслаждением произведением искусства. Наверное, все они - тончайшие ценители вещей - как же иначе?
Припомнились и разговоры, слышанные в автобусе по дороге из Лианозова в Москву и обратно - всё о вещах: платках пуховых, шерсти, коврах, ещё о чём-то, да о квартирах - какая кухня, да что в ней стоит.
"Господи! - думал я тогда, как и раньше. - На что Ты дал человеку язык? На что? Ведь на те пустяки, которые обсуждают они, не нужно языка. Хватило бы и мычания бессловесной твари. Ведь это что же такое, Господи! На что же дар-то Твой тратят? Ведь это же - как суп варить на ускорителе, как самогонку гнать через синтезатор..."
Но тут раздался мощный русский мат. Звучал он бодро и ядрёно, здоровый такой и трезвый утренний рабочий маток - не с целью кого обидеть или оскорбить и не в порыве чувств, а так - в простоте. Даже и секса не было в нём никакого, окромя терминологии, и это служило к чистейшему посрамлению Зигмунда Фрейда.
Я раньше думал, что матерщинники - стихийные фрейдисты. Сквернословят и сублимируют этим неудовлетворенные половые вожделения. Но нет - убедился - нет уже давно у пропитого рабочего человека особых там каких-то вожделений, не до них ему.
Помню, сидел я на лавочке в ожидании электрички и познакомился с двумя шоферами - они из колхоза возвращались. Один говорит:
- Нас когда в колхоз посылали, все завидовали, говорили: "Счастливые! Целый день на воздухе, баб будете напяливать!" А с чего напяливать-то? С утра целый день не жрамши - пока в пять утра встанешь, машину разогреешь, сам в ней чуток посидишь, погреешься - и в поле, на весь день - капусту возить. А вечером так навозишься, что только до койки дойдешь да разденешься - и спать. Вот так целую неделю. А жена: "Пьяница! Алкоголик!"
Матерились двое рабочих в промасленных спецовках, чёрные, как жуки, - громко, не стесняясь присутствия женщин, а возможно, и детей, но через остановку, всем на радость, вышли - у автозаправочной станции.
Помню, ехали мы с сестрой в трамвае, а позади нас сидели три или четыре подростка, которые так чесали матом - причем всуе, без какой-либо причины, - что я, чуть обернувшись, сказал им:
- Господа! Мы находимся не в чисто мужской компании. Прошу вас выбирать выражения.
Они присмирели. И смогли обходиться без мата до самой своей остановки.
А ведь когда-то для образованной девушки услышать мат было не то чтобы экзотикой, а просто-таки невозможной вещью - существовал свой круг, да и люди, независимо от круга, считались с обстановкой и друг с другом - все были христиане и подданные государя.
У рабочих, я понимаю, трудные условия. Они вообще какие-то чумные. Завод есть завод - адище на земле. И они заслуживают сочувствия. Но речь сейчас не об этом. Я всё думаю: неужели этот матерящийся, полупьяный класс - и есть самый сознательный, самый передовой в нашем обществе? Не вкралась ли здесь какая ошибка?
А теперь и страны такой - России - считай, нет, и живёт в ней неизвестно кто - какие-то всё непонятные народы, которых и в помине не было тут век назад. Ясно только, что заполнили эти набежавшие невесть откуда племена тот страшный вакуум в культуре и социальном пространстве, который пробит был революцией и всосал в себя, не пощадив, все образованные слои российского общества, включая духовенство и купечество, а заодно и всех мало-мальски культурных крестьян. (Только покорные и уцелели.) Я ещё удивляюсь, как удалось собрать народ на Гитлера - ведь столько было побито своими же... Хотя - какие там "свои"...
НЕВЕСТА
Сортир на Неглинке был закрыт, и бабы, все в одинаковых кожаных пальто и лисьих шапках, в невероятном количестве толпились поодаль от него, запрудив тротуар и стеснив остановку, - курили, скаля зубы, и договаривались о ценах на шмотьё. Даже странно было, как могли вместить такую массу спекулянток недра сортира, хотя, судя по мужской его половине, и довольно просторного.
- Вот что, хватит дурака валять, - сказала Нора по телефону. - Я нашла тебе невесту.
- Какую ещё невесту?
- Сам увидишь. Я ей много рассказывала о тебе, и она согласна. Сегодня вечером приходи. Бутылочку красного не забудь.
После работы я купил бутылку хереса и, раздираемый любопытством, отправился к Норе. Невеста, судя по звукам, сидела на кухне. В прихожей Нора шепнула мне, что у невесты есть собака - дог, однокомнатная квартира и мечта посвятить себя служению гению, поэтому я должен что-нибудь спеть.
Невеста восседала на кухонной табуретке, положив одну увесистую ляжку в сетчатом чулке на другую. Была она в сером жакете в мелкую клеточку и такой же юбке. Оглядев меня сквозь тёмные очки, она продолжила прерванное занятие - а занималась она тем, что набивала трубку. Трубка была короткая, толстая, вишнёвого дерева, и набивала её невеста табаком "Нептун", ловко уминая его большим пальцем с крепко наманикюренным ногтем. Цвет лака для ногтей, трубки и лакированных туфель, а также сумочки, небрежно висящей через плечо (откуда и был извлечен табак вместе с пудреницей и трубкой), совпадал - был благородным темно-вишнёвым.
Говорила невеста басом.
Выпили по рюмочке. Нора сказала, что, когда она выпьет, ей хочется курить.
- Мне курить всегда хочется, - пророкотала невеста, посапывая трубкой...
БУДНИ
...Грязь, кругом сплошная строительная грязь. Всё строят, строят и никак не построят свой паршивый, занудный коммунизм, о котором столько мечтали и болтали. Всё копают и копают, как будто роют подкоп под себя, как будто хотят зарыться в эту грязь и больше из неё не вылезать. И процветают лишь пивбары. И выходят из них дегенераты в фуфайках и спецовках, с расстегнутыми ширинками, непонятно, какого роду-племени, что-то смутное, с черноватыми подтеками, с татуировкой на руках, выворачивающее карманы вскладчину.
Стоял барак для приёма бутылок. Из него выходили весёлые, оживлённо спешили в магазин.
Слов было не разобрать, но и по интонациям можно было догадаться, что это наш родной российский мат.
"Ты хорошо копаешь, старый крот". "Пролетарии не имеют родины".
"Я счастлив, что я - этой силы частица..."
"Где каплей льешься с массами" - с массами обормотов.
Коммунизм мы уже построили. Теперь осталось подвести под него материальную базу.
Где стройка, там грязь.
Когда разговор идёт на теоретическом уровне, всё прекрасно: светлое будущее, гуманизм, всё для народа. А стоит задеть то, что касается тебя лично: возможность купить носки или квартиру, поехать за рубеж или напечатать книгу - и тут полный и неисцелимый мрак.
Такой неразрешимой проблемой, например, стали джинсы.
Почему за всё надо бороться, всего достигать героическими усилиями? Десятилетиями идёт борьба за урожай, за качество, за высокую культуру. Страшно подумать, что было бы в стране без этих титанических усилий.
Взять хотя бы те же носки. Или не будет моего размера, или шерстяных не будет вообще, или будут унылого сизо-лилового с прозеленью цвета. Так и вышло. И вдобавок без резинок.
В магазине дрались сумками.
Молодые парни и девушки - спекулянты, не стесняясь, стояли возле дверей полуподвального туалета, обсуждая свои дела. Они спустились бы и в самый туалет, и вместе мочились бы и испражнялись там, и никого бы это особенно не удивило. Это были две разновидности или два варианта этого типа человеческих существ - как две половинки у задницы. И сексуальные отношения там так запутаны-перепутаны, что позабылась давным-давно возможность тайны, сокрытия чего-либо. Эти предельно эгоистичные существа наиболее общественны. Вот почему именно общественный бисексуальный туалет так отвечает их природе. Может быть, поэтому они выбрали этот угол Неглинки и Кузнецкого местом сделок.
На углу красовалась афиша выставки художника Николая Жукова, прославившегося бесчисленными портретами Ленина во всех видах: мать кормит грудью младенца (Ленина?).
Почему-то вспомнился рассказ бородатого филолога о том, как всенародно знаменитый Солоухин стал писателем. В послевоенные годы приехал будто бы в Москву Черчилль и смотрел с мавзолея парад наших войск. Событие это засняли на кинопленку. По обыкновению, ночью Сталин просматривал её и увидел, что Черчилль кому-то дружески улыбается и машет рукой. Камера услужливо скользнула вниз, и стал виден адресат уинстоновой улыбки - курсант роты охраны с широким русским лицом, который так же хорошо, радушно улыбался гостю. Сталин поднял палец, пленка остановилась.
- Найти. Узнать, чего хочет. Дать, - сказал вождь, немного подумав, и выпустил клуб дыма.
Курсанта Солоухина растолкали среди ночи, и он ответил:
- Хочу стать писателем!
В метро все ехали какие-то больные. Лица, словно покрытые пеной, мутной, ржавой плёнкой усталости и безучастия, окружали меня. Серые, смутные лица, наводящие скуку и тоску по потерянной родине.
Мне близок пафос Кафки ("В исправительной колонии" и другие новеллы, например, "Рулевой") - каждый из нас на своём месте играет решающую роль в истории.
Вы можете сделать со мной всё, что угодно, - я за это ответственности не несу. Я же буду отвечать за то, что я сделаю.
И что бы вы ни болтали о благе народа, я знаю: вы - хунта, банда убийц и разбойников, захватившая власть в стране.
Вы - не Россия в той же мере, в какой не была ею Золотая Орда.
Вы погубили мою родину.
Мужик читал "За рубежом", и это было смешно, так же, как смешно увлечение хоккеем по телевизору, или "клубом кинопутешественников". Совершенно апатичные к тому, что касается их непосредственно, - их прав и их жизни, - люди напряжённо интересуются вещами, бесконечно удалёнными от них, причём не духовными, спасающими, душу, а совершенной чепухой, суетой вокруг дивана.
Наша действительность настолько фантастична, что она даже не является действительностью по сути дела. Она вся - вымысел. Мы живем в мире миражей, мире мнимостей. Миражи политики, спорта. Одуряющие миражи телевидения. Миражи истории, искусства, литературы. Мнимость общественных наук и философии. Выразить эту действительность адекватно можно лишь фантастическими средствами. Это и есть субъективный реализм.
Только сон приносит отдых. Душа как способность: происходит ее свертывание из действительности в возможность.
Мой отец слушал по подаренному нами транзисторному приемнику вражьи голоса и не верил им.
В СТРАНЕ И СЕНИ СМЕРТНЕЙ
Никак не мог понять, почему детям рассказывают о Деде Морозе и запрещают рассказывать о Христе. Ведь Россия и не была никогда никакой, кроме как православной. До крещения Руси были какие-то поляне да древляне, да кривичи. И языка-то русского толком не было - так, одни диалекты. Мы восприняли еврейско-греческую византийскую культуру, поскольку, помимо первобытного язычества, ничего не имели. Идоложертвенное ели.
- Сейчас филологи записывают речь стариков на магнитофон - русская речь утеряна. В те дни, когда "ер" звучал, отчетливо чеканились окончания слов, "ять" заставляла вдумываться в сокровенную сущность слова. Речь была неторопливой и выпуклой, запоминающейся, как шрифт "эльзевир".
- Читаешь про остатки усадеб и развалины церквей - словно Рим после нашествия варваров.
- Я одно время жил в Самарском переулке. Дом этот строили для врачей. Потом врачи ушли на войну, а в стране началась революция. Дом заселили хамьём. Я не могу назвать их, к примеру, пролетариями, потому что это было не так. Дом заселила мелкота: парикмахеры, совторгслужащие, их дети, которые, подрастая, становились алкоголиками...
- Офицерство было делом и долгом дворян. Они шли на фронт и погибали. Защищать дома стало некому.
- Тогда практикой были понятия чести, порядочности, благородства. Человек, совершивший бесчестный поступок, терял расположение людей своего круга, ему отказывали от дома.
- А теперь подонство процветает.
- Питирим Сорокин говорил, что войны и революции производят в обществе искусственный отбор, в некотором смысле противоположный естественному: лучшие, сильнейшие гибнут, ибо они оказываются на переднем крае борьбы, а худшие, слабейшие сохраняются, поскольку они-то в драку не лезут и доживают до мирных времен. Войны и революции - фактор деградации наций.
- Проходя по выставке русского портрета, можно было увидеть, как от года к году деградировали лица...
- Бердяев говорил, что святость дает нам новую породу преображённого человека. Пока же мы замечаем вокруг себя лишь ухудшение породы, обезображенной безбожием. Отобраны те, чьи отцы смирились с рабством.
- Мы все больны социальной гиподинамией.
- Косоглазие, характерное для вышедших из тюрьмы... Я всё чаще замечаю его у встречных обычных людей.
- Ложь растеклась по жизни, как мазут по поверхности воды, радуя радужными бликами...
- Пластмасса всякий раз подделывается под натуральный материал: дерево, металл - не отличишь. (Я подумал об этом в метро, вспомнив о синтетических елках, - все несли елки.) "Натуральный" же вид пластмассы безобразен - синтез всякой дряни. И даже если свойства её имитируют натуральные, всё же не то. Можно сделать пластмассовые ножи и даже мечи. Но идти на битву с мечами из опилок... Сталь, выплавленная из руды, которую вынули из недр земли, вбирает в себя подземельную, природную, от Бога идущую силу.
- Стали делать продукты из синтетики. Человек есть то, что он ест. В нашу плоть и кровь вошли отходы.
- Как тут не вспомнить притчу? Мужчины одного народа ушли на войну. Рабы, оставшиеся дома, захватили власть в стране и взяли жён воинов себе в наложницы. У этих женщин родились дети. Война была долгой, и когда воины вернулись, в дороге их встретили вооружённые, ставшие взрослыми сыновья рабов. Молодые и сильные, они стали теснить измождённых воинов. Но тут один из вернувшихся, из чьей руки был выбит меч, ударил противника бичом. Тот дрогнул. Видя это, другие старые воины также принялись хлестать врагов. Дети рабов в ужасе разбежались: страх бича был у них в крови.
- Бердяев говорил, что социализм есть сентиментальная жестокость и жестокая сентиментальность, а Мережковский - что конфликт пролетариата и буржуазии суть недоразумение: они духовные братья, у них одинаковые ценности, но разные цели. Бердяеву же принадлежит мысль о безблагодатности духа ненависти и мести, движущего революцию.
- Идеи рационалистов, сами по себе здравые, овладев невежественной толпой, привели к ужасным последствиям - как и всякие другие идеи.
- Лучше всего держать народ в неведении, на уровне старых стандартов. Самый надежный гарант мира - консервативность масс. Масса инертна. Ужасно, когда она приходит в движение - по любому поводу.
- Нет ничего отвратительнее рабочего, который чего-то требует. Нарушение принципов, фундаментальных основ бытия. Дело рабочего или служащего - быть добросовестным исполнителем своего урока или долга и ждать жалования от господина. Дело господина - быть щедрым и справедливым.
- Служащие - от слуг, рабочие - от рабов. Слуга должен неотлучно находиться при господине.
- Крестьяне - от креста.
- "Оставайтесь каждый в своём звании".
ЯВЛЕНИЕ
Одному гражданину явился митрополит Филарет. Было это в Москве вскоре после войны. Днем явился старичок в серой рясе и говорит:
- А ведь я твой родственник.
(Оказывается, брат Филаретов приходился этому гражданину прапрадедом.)
А еще говорит:
- Я к тебе по делу.
И объяснил, что на одном из московских кладбищ похоронена их общая родственница, княгиня N, и что могила её находится в небрежении: ограда поломана, памятник сняли и хотят продать, а на этом месте собираются ещё кого-то похоронить.
- Ты иди, - говорит Филарет, - и добейся, чтоб там все привели в порядок.
Объяснил подробно, как найти могилу. И исчез, растворился в воздухе.
Гражданин этот приходит на кладбище, на котором прежде ему бывать не приходилось, находит то место и убеждается, что всё так и есть, как описал Филарет: ограда сломана, памятник стоит в стороне и приготовлен, чтобы его увезти. Он к директору. Тот сначала удивился, а потом говорит:
- Знаешь что, мужик, вали-ка ты отсюда, пока цел, а то вот я как позвоню сейчас на Лубянку - там враз разберутся, чей ты родственник.
Дроздов испугался и ушел. И снова является ему Филарет и говорит:
- Ну что ты боишься? Что ты боишься? Ведь я же с тобой. Иди, дойди до верховных властей, а своего добейся.
Тот так и сделал - и что ж? Быстро навели порядок: ограду поправили, памятник вернули на место. А директор кладбища заболел и умер в страшных мучениях.
Дроздов, когда Филарет второй раз приходил, подумал: "Кажется мне это или нет?" И потихоньку за край рясы ухватился: мягкий такой, обыкновенный материал. Филарет почуял, рассмеялся:
- А ты - маловер! - И пообещал: - Помирать будешь - я за тобой приду.
Существует поверье, что когда умирает грешный человек, он видит свою смерть - она за ним приходит (например, у Шукшина в рассказе "Как умирал старик"). А когда праведник умирает, то с ним происходит по молитве: "Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки" - то есть он лица смерти не увидит, а придет за ним ангел или святой, или Божья Матерь, или Сам Господь. А в этом случае - митрополит Филарет обещал прийти, чтобы взять Дроздова в жизнь вечную.
МУЖИК
- Привыкли русские толкаться, - вдруг раздался мужской голос. - Привыкли с самой войны жить в толчее. Что за люди? Все такие грамотные, интеллигентные, а никакого уважения к себе. Ведь вы заплатили пять копеек, занимайте свободные места и езжайте. Нет мест - подождите другого автобуса. Мало автобусов - требуйте, чтоб было больше. Стыдно за огромную Россию. Россия такая большая, богатая, а порядка в ней нет. Ждут, пока их рабочий человек уму-разуму научит.
- А сам-то чего сел? - спросил кто-то.
- А мне всего одну остановку ехать, я уже схожу.
- Вот и сходи, и подумай об этом обо всем сам.
- Я-то подумаю, я хорошо подумаю. А ты подумай об этом ночью, - неожиданно заключил он и вышел из автобуса, и пошел вдоль светящихся витрин, в толстом синем драповом пальто и толстой круглой шляпе сумеречного цвета.
Автобус отошел, и все чего-то примолкли.
А мне подумалось, что мужик-то был прав.
ВЕДЬМА
Парень обладал физиономией, которая в принципе не могла никого раздражать. Он же помог страшной бабке надеть ее ужасающий мешок.
Мужчина был совершенно беззащитен в этой нелепой ситуации, когда пьяная старая цыганка согнала его с места, а его жену обозвала "стеганой тварью" и всякими похабными словами, а потом, сменив гнев на милость, пригласила: "Сынок, садись!"
Только ребята-пэтэушники, хулиганистые и развеселые, оказались адекватны ей. Они подсобили бабке выйти из вагона, а потом швырялись в нее снежными лепешками, заливаясь смехом в ответ на ее ругань.
А я подумал о том, как хорошо было в прежние времена, когда какой-нибудь полковник сидел бы при этом, уткнув подбородок в эфес шашки, и сходу отрубил бы старой ведьме голову.
ЮБИЛЕЙ ВОЖДЯ
- Он всех, с кем когда работал или учился, всю родню устроил на хорошие места, никого не забыл, - с похвалой говорил о Леониде Ильиче однорукий инструктор Днепродзержинского горкома партии с плаксивой фамилией Рева. - Ну а что, если есть возможность.
О том, что отец Брежнева Илья Яковлевич прятал евреев от погромов, Горюнова вычеркнула:
- Я надеюсь, вы - русский человек?
Мне было непонятно, почему русский человек должен ненавидеть евреев.
СЛОВА
- Меня волнует то, что слова у нас все чаще расходятся с делами, - сказал мой отец. И добавил: - На каждом районном активе принимается письмо Брежневу. Принимается, но не отправляется. Не будет же он все эти письма читать.
- Да и если б было в них что толковое, а то так, все одно и то же.
- Достижения, итоги, планы на будущее...
- Ну конечно: есть нечего, носить нечего, негде жить. А в остальном - большие достижения.
Отец все-таки не соглашался, возмущался диссидентами:
- Им советская власть все дала.
- Да нет ее уже с 18-го года. И потом это все равно, что говорить: почему вы не любите свою тюрьму? Она вас кормит, одевает, обувает, учит жить...
Спорили:
- "Прописка" - беззаконие, крепостное право, - доказывал я. - И пусть они заткнутся.
- Арсений-то, - вспоминал отец своего племянника - подполковника МВД, - лучше всех устроился: две квартиры в Москве. Это надо же подумать!
- Арсений при власти сидит.
- Ну, положим, власть у него небольшая...
- А все же и ему от нее кое-что перепадает.
- Арсений власть укрепляет. А вы ее расшатываете.
- Да плохо что-то расшатываем, никак расшатать не можем.
- Вы - отщепенцы! - ярился отец.
- Это вы отщепенцы, начиная с Чернышевского. Мы тоже можем вам счет предъявить.
- От кого?!
- От русского народа! Кто крестьянство разорил? А?!
Отец умолкал.
На руках моих язвы гвоздиные.
РОДИНА
- Родина там, где человек родился.
- Мы рождаемся в том или ином месте случайно. Предположим, рождается сын у служащих английской колониальной администрации в Индии. Он рождается в Индии и живет в ней всю жизнь. Неужели его родина - Индия, где ему все чуждо, а не Англия, о которой он помнит, с которой соотносит свою личность, где лежит его сердце? Или дети русских белых эмигрантов, родившиеся в Нанкине. Неужели их родина - Китай, а не Россия, которая их отторгла, отвергла их родителей - если они вернутся, то непременно попадут в тюрьму, в лагерь? И через сорок поколений нашего рассеяния родиной русских останется Россия. Так почему же через четыреста поколений еврейского рассеяния Израиль не может быть родиной евреев?
- Приезжали из Америки туристы - украинка, армянин. Их спрашивали: "Кто вы по национальности?" Они отвечали: "я американка"; "я американец"; "мы родились в США, и это наша родина".
- Вероятно, им есть за что любить свою родину, у них есть для этого основания. Таня Эрастова родилась в сибирском концлагере. Ее спеленали и перебросили через колючку в сугроб. Вольные люди подобрали и выкормили. Так что же ей - любить лагерь? Родился в тюрьме - люби тюрьму? Почему я должен любить Советский Союз, где людям запрещается жить, где они хотят, где кругом сплошная ложь? Моя родина - Россия, но ее, той России, которую я люблю, больше нет, она уничтожена. Вот так я снимал комнату в Самарском переулке, в доме дореволюционной постройки, восьмиэтажном доме с лифтом. Дом был построен для врачей. Потом врачи ушли на войну и не вернулись, а дом был заселён всякой сволочью... Ну, это ладно... Там ходил трамвай, а кругом стояли двухэтажные деревянные дома. Через несколько лет я пришел туда - а Самарского переулка больше нет - его снесли весь, а на его месте построили стадион к Олимпиаде. Марк Шагал, когда приезжал после революции из Парижа, не захотел заехать в Витебск - знал, что того Витебска уже нет. Так вот, представьте себе, что есть цветущая деревня или небольшой городок, который снесли, а на его месте выстроили барак с цементным полом, обнесенный колючкой. И я рождаюсь в этом холодном бараке. Так что - он моя родина? А не та деревня, которая стояла на его месте? Так был погублен Тамбов, после восстания 1920 года, были уничтожены его силы и остались... те, кто остались.
С "ЛЕЙКОЙ" И С БЛОКНОТОМ
Старик-фотограф с очень бойкими черными глазами-буравчиками возбужденно рассказывал мне о комсомольской конференции, которую он только что снимал, - какие там замечательные, боевые ребята - не то, что мы, вспоминал двадцать третий год.
А я, грешным делом, возьми да и подумай: "Попался бы ты мне, мерзавец, в двадцать третьем году"...
Тогда он был секретарь комсомольской ячейки, страшный человек, а теперь - просто старичок.
Я сидел напротив него за обеденным столом и думал, смирившись в сердце своем: "В чем было наше упущение?"
МОНАРХ
Почему-то Николай II воспринимается мною как человек, постоянно мучимый головными болями.
Он был, видимо, неплохой мужик, недалекий и безвольный. Был очень привязан к жене и детям.
Зачем-то слушал Гришку Распутина, шел на поводу у правых экстремистов. Поддался и либералам - отдал престол.
Его эксцентрические расстрелы были выходками неврастеника.
Он был запуган революцией и принял Февраль со смирением и кротостью. Это вообще романовская черта, если вспомнить легенду об Александре I (о старце Феодоре Кузьмиче).
Взрывы слепой и потому нелепой жестокости Николай II унаследовал от дедов - тёзки и Павла I.
Пишут, что в неволе он притих, был задумчив и всё колол дрова. Царевны, воспитанные в христианстве, терпеливо сносили мат охранников.
Когда белые подходили к Екатеринбургу, чекисты отвели царскую семью в подвал и всех, включая и детей, расстреляли из пистолетов в упор, а тела облили кислотой (так же было поступлено впоследствии с Лумумбой).
А потом срыли и дом в Свердловске, где произошло цареубийство, и не осталось никаких следов.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Временами случались маленькие происшествия: то загорался туалет напротив кабинета главного редактора, то приходила, гордо выпятив туго вздувшийся живот, незамужняя секретарша, то резал вены художник, считавшийся на грани гениальности.
Вагрич Бахчанян собрался уезжать. Его спросили, почему. Он ответил:
- У меня тоска по ностальгии.
СОКРОВИЩЕ СМИРЕННЫХ
Нас учили премудрости Горького: "Если враг не сдается, его уничтожают".
Настина мама, умирая от рака, так и не смогла примириться с тем, что ее дочь - христианка, и все твердила: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". А брат Насти Петя ("Петруччо", как он шутовски отрекомендовался мне однажды по телефону) был издерган алкоголем и наркотиками и выбросился из окна.
Настя плакала, курила, а по ночам, при свете настольной лампы, левкасила доски, писала, олифила и вновь писала глянцевые, сияющие на темном фоне, румяноликие иконы. Пятеро детей спали, кто спокойно, кто нервно разбрасывая руки, в тёмных, скраденных пологом ночи углах. Стёпа корпел при ярчайшей лампочке на кухне, вырисовывая беглым физтеховским почерком шеренги формул, похожих на орнаментальную графику египетских, в пирамидах найденных пиктограмм, порождая ужасающую мощь режущего луча, завязывающегося из этих латинских и греческих букв и арабских цифр, выписанных блестящей сталью шариковой ручки на кухонном столе с подстеленной газетой. Временами на стол вскарабкивалась мышь. Стёпа кормил её сыром. Он засыпал, улыбаясь своим мыслям, безмятежный, чуть лысеющий, с пушистой рыжей бородой, аккуратно сложив под подушку очки с золотистыми дужками.
ВАГОН
Я понял, что эти, играющие за моей спиной в подкидного дурака, и этот, со странным усердием тренькающий на гитаре, - мой надежный тыл.
Это моя страна и это мой народ, несмотря на все пошлости Чернышевского. Забывший Бога народ.
НА ПЕТУШИНСКОИ ВЕТКЕ
Напротив меня сидели два щетинистых субъекта в драповых пальто с оторванными пуговицами и долгое время молчали, уткнув носы в затёртые шарфы. Наконец один из них повернул к другому голову и сказал:
- Но зато всё же мы - интересные люди!
- Да, ты уж запасся удостоверениями - что ты и тигр, и волк, и медведь, - сказал мой друг, удивлённо взирая на мои корреспондентские регалии.
- Мы не умеем различать духов, - говорил он.
("Я был тогда молод, - вспоминал о тех временах мой приятель-переплетчик - создатель романса "Поручик Голицын", - и не имел никакого опыта, кроме опыта подпольной борьбы".)
- Меня тут напугали, - продолжал забредший в редакцию друг, - говорят, что Москву скоро переведут на третью категорию снабжения. А она давно уже на пятой категории!
- Напугали, выходит, ежа голым задом.
- Эти все события показали, что можно всё что угодно. Это был прекрасный социальный эксперимент. И все эти социологи, экономисты и прочие, которые кормятся вокруг науки, должны только радоваться. Правда, до конца эксперимент довести, как в Кампучии, не удалось. Там ведь только чиновники имели право есть рыбу и мясо.
- Да, как в Кампучии - отстрел ненужных сограждан.
- Нас внешние обстоятельства немного сдерживают. Если б не они, все было бы о'кей.
- Ой, не знаем, что завтра будет.
- Что завтра? Тут не знаешь, что сегодня-то было.
- Народ пуганый, потому и не бунтует.
- Понятно, что все хотят выбиться в начальство, чтобы жить не по законам коммунизма.
- Американцы говорят: "Вам не нравится правительство? Так смените его".
- Они не понимают того, что такое коммунизм, и пример с Кампучией их ничему не научил.
Гонорары были разными: от трех до семи лет.
А мой друг, быв спрошен о том, что ждет нас в будущем, отвечал со всей определённостью:
- Три по пять. - И разъяснял: - Пять лет тюрем, пять - лагерей и пять - по рогам.
("По рогам" означало ссылку без права переписки.)
- Страна юридическая, - утешал он. - В других бы голову оторвали.
Это была страшная зима - с дикими морозами, пустыми прилавками магазинов.
В отделе юмора "Литературной газеты" - "клубе рогов и копыт" - выдавали продукты по талонам. Я для юмора спросил:
- Что, рога и копыта дают?
А оказалось - действительно, копыта - говяжьи - на холодец.
Мой друг всё твердил о Кампучии, об убийствах масс людей мотыгами - экономили патроны:
- Если Россия и не погибнет, то исключительно благодаря своей расхлябанности... На нас ещё Запад давит. Не в том смысле, что морально давит, а тем, что он вообще существует.
И о связях наших в этом вымороченном мире:
- Мы должны - как два чукчи среди льдов...
КОМСОРГ
Владик Пафнутьев съездил в Испанию. Он был секретарем комитета комсомола в редакции. Вернувшись, рассказывал о классовой борьбе.
Амиров, имея в виду отдел национальных литератур, которым заведовал наш комсорг, ехидно называл его "курбаши Пафнутьев".
И правда, в кабинет Владика цепочкой тянулись восточные люди, и тогда из-за дверей по коридору плыли запахи коньяков и жареной баранины.
СОВХОЗ
В окна правления билась метель, застывая узорной наледью.
- И я прошу, сажай их скорее, Пётр Иванович, в тюрьму, - закончил директор совхоза.
Румяноликий, улыбающийся с мороза участковый сидел тут же в президиуме.
Нарушители трудовой дисциплины угрюмо молчали, растворясь в телогреечной массе односельчан.
ЕДА
Выступил с краткой речью секретарь партбюро Паша Загорунин.
А что я могу сказать? Что абстрактный рекордный урожай зерна мало радует меня, потому что в магазинах нет мясных продуктов, а в провинции нет молока, картофеля и круп, за сахаром давка. Мало радует, потому что кур в "Литературной газете" продают по талонам, хранящимся у Пети Полосухина.
Но я промолчу, потому что сказать такое на собрании - совершить бессмысленное самоубийство, да и испортить людям праздник - а для них это действительно праздник, других праздников они не знают. Вот и иду к тете Лизе за "спец." корейкой и сосисками, да за копченой колбасой по протекции Елены Игоревны. Сам по себе я ничего не значу, но как сотрудник Елены Игоревны приобретаю косвенное право на часть причитающихся ей жизненных благ.
Омерзительна, оскорбительна эта суета, давка вокруг простейшего - еды, получаемой как привилегия. Народ этих продуктов сегодня, как и завтра, не увидит. И подумалось мне, что при нашей, при царской то есть власти подобного не было и не могло быть в принципе
Страх сделал из людей обывателей, лишил их гражданского чувства.
- "Народ и партия едины".
- Едины, едины, только отлюбитесь!
Вот и Рита Заменгоф возмущённо требует допуска к закрытому распределителю, вместо того, чтобы поставить вопрос в принципе: почему нет еды? Тоталитарная террористическая система формирует принципиально обывательское мышление. Тем самым деградирует сознание, деградирует нация.
А курица мне все-таки досталась: Полосухин дал талон.
Перед выездом с работы я позвонил домой.
- Теперь ведь за колбасу и убить могут, - предупредила сестра.
- Ничего. Я буду колбасой отмахиваться.
Я нёс её на весу - полученную в льготном литгазетовском буфете, окаменевшую и величественную, как мрамор, колбасу - через морозную Москву, мимо пустых витрин и прилавков с рыбными консервами, сквозь мороз и метельную тьму - для встречи Нового, 1979 года.
На Рождество была большая радость - свергнут коммунизм в Кампучии. Добрый знак для нас.
СЕВЕРНЫЙ РАЙ
Музейная служительница повернула полуметровый ключ сперва по часовой стрелке, а затем, дважды, - в обратном направлении. Лишь после этого сработала пружина, разжавшая бульдожий прикус замка.
По бокам вход охраняли два атлетического сложения ангела, вооружённых огненными мечами. Написаны они были в 1789 году крестьянами Онежского округа Иваном Ивановичем и Иваном Алексеевичем Богдановыми-Курбатовскими.
Внутри мы обнаружили богатый, почти целиком сохранившийся иконостас. Были сорваны только золотые ризы, иконы же остались в неприкосновенности.
Владимирская. Ветхозаветная Троица византийского письма. Спас в силах...
Из-под купола свисало витое чугунное паникадило (то, что в гражданских зданиях именуется люстрой). Кронштейном, на который оно крепилось вверху, служила гигантская, не менее трех метров в длину, рука Вседержителя, изготовленная искусными и дерзкими на замысел умельцами.
У выхода помещалась икона "Страшный суд" с перечислением грехов, за которые можно попасть в ад: ограбление, разбойство, объядение, скупость, неправда, памятозлобие, гнев.
Одолев бесчисленные пролеты с окошками-бойницами, я взобрался по винтовой кирпичной лестнице на первый ярус колокольни. По краям охраняли звонаря витые чугунные ограды с деревянными перилами. Настил дощатый, напоминавший палубу, был скошен от центра к краям - для стока снега и дождевой воды. Здесь, вероятно, прежде висел большой колокол - может быть, и не один.
Увидев следующую дверь, я отворил её и двинулся дальше, на верхний ярус. Картина, открывшаяся взору с этой высоты, поразила так, что дух захватило.
Ещё по одной, деревянной лестнице с тонким перильцем - к последней, заколоченной двери, ведущей на крышу колокольни. Обернулся, шагнул вниз на одну ступеньку, другую - и мелькнула безумная, тут же подавленная мысль: а махнуть через парапет - будь что будет!
Вспомнился Достоевский с его рассуждением о русском человеке, любящем заглядывать в пропасти и ходить по краю обрыва. Вспомнилось и искушение Христа духом зла в пустыне: бросься, - говорит, - с крыла храма вниз!..
Мы приблизились к изукрашенной каменным кружевом церкви Благовещения. Где ещё можно увидеть такое? Зимний северный рай, цветы снежинок, с детства запавшие в душу морозные узоры окон - вот чем были блистающие белизной стены этого здания.
Мы обошли его кругом и с противоположной, не видной с улицы стороны обнаружили нескончаемые, закрывающие и небо и храм, нагромождения деревянной тары. Между ящиков была выбрана ложбинка. По ней, как по дну траншеи, можно было подойти к дверям и прочитать записку: "Принимать не куда". (Здание церкви использовалось как пункт приёма пустых бутылок.)
Остановился экскурсионный автобус, из дверей вывалил любознательный народ, раздался привычный к лекциям голос Галиневича. Он слегка прошелся по поводу ящиков и добавил, несколько хвастливо, что из полутора десятка священнослужителей, которых насчитывает область, местных уроженцев только двое, все остальные - с Западной Украины. Цифры свидетельствовали об эффективности атеистической работы среди северян.
До войны на этой площади - Торговой, а потом Красноармейской - были устроены полигон, плац и стрельбище. До сих пор на бревенчатой стене дома, где размещался военкомат, остались не выцветшие до конца, запекшиеся бурые буквы: "ни пяди не отдадим" и подпись: "И. Сталин". А на апсиде полуразваленного Никольского храма зеленел ещё с тех времён призыв: "Учись стрелять по-ворошиловски". Стреляли, видимо, в сторону храма: на стене остались следы от пуль. Здание, захламлённое гипсом, щебнем и обварками железа, просматривалось насквозь; сквозь глазницы окон легко читался лозунг на противоположной стороне площади: "Слава советскому народу".
Мы с Турандиным бродили вокруг собора и подбирали с земли человеческие кости - челюсть, ключицу, лобную часть черепа. Тёмная была история с этим местом: собор в землю пошёл, а кости выплывают.
Рядом высилась громада храма Иоанна Предтечи.
- Это склад ОРСа. Так они ругаются: у нас здесь сыро, холодно. Просят: дайте нам нормальный, типовой склад. Нет, им отвечают, используйте помещение церкви, - простодушно рассказывал мой спутник.
От него я узнал, как "разворочали", сравняли с землей Успенский женский монастырь. Стояла там белокаменная древняя церковь с фресками. В 1939 году её развалили, а камень - известняк - искрошили и рассыпали по полям (кто-то, напутав, решил, что это улучшит почву). Из икон в ремесленном училище делали табуретки: молотками обколачивали лицевую часть, прибивали ножки - доска гладкая, удобно сидеть.
И стало отчетливо ясно: стыдно быть советским, и особенно - занимать высокие посты.
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ САНТА КЛАУСА
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ
В детстве в Деда Мороза верилось. Помню, как он вошёл - высокий, румяный, в красной шапке, отороченной белым ватным мехом-снегом, в огромных валенках, варежках, алой шубе, подпоясанной кушаком, с мешком и дорожным посохом, в гулкий сияющий зал тамбовского музыкального училища, как запел удалым зычным басом:
Разыграйтеся, метели,
Гнитесь ниже, сосны, ели.
И в моем густом лесу,
Заморожу, занесу.
Берегите руки, ноги,
Берегите уши, нос -
Ходит, бродит по дороге
Старый Дедушка Мороз.
Рука его (рукавицу он снял) оказалась неожиданно тёплой. Дед Мороз повел меня, шестилетнего карапуза, а за мной и всю длинную цепочку детей по каким-то запутанным коридорам, чугунным лестницам, навощённым паркетным полам - и ввел... в тот же зал, но только с другой стороны.
Он плясал под елкой (у нас в Тамбове это была, собственно, не елка, а сосна), смешно задирая ноги в валяных сапогах. А потом раздавал подарки: апельсины, печенье, конфеты в красивых обёртках...
Каково же было мое удивление через год, когда Мария Моисеевна, настраивая мою "восьмушечную" скрипку, обмолвилась кому-то из учителей, что Федьке Ведищеву не разрешили на этот раз быть Дедом Морозом, потому что он двоек нахватал.
Федька? Двоек? Так это был студент-вокалист, а никакой не...
Потом, уже постарше, я и сам, бывалоча, красил губной помадой нос и щеки, приклеивал снежную бороду, обряжался в алую перепоясанную шубу и торжественно входил в квартиру друзей, где дети ждали Дедушку Мороза. Слышал я и о том, что к заграничным детям на Рождество приходит, но не Дедушка Мороз, а Санта Клаус - забавный такой старичок в красном колпаке и с мешком подарков.
Санта в переводе значит: святой, а Клаус - это то же самое, что Николай. Был и вправду такой человек. Он жил в Греции в четвёртом веке нашей эры в маленьком городке Миры в Ликейской области, почему и зовется - Николай Мирликийский. Он был архиепископом, то есть главным священником в этой местности, и отличался необыкновенной добротой.
У одного жителя Мир было три дочери. И вот пришла пора старшую замуж выдавать. У отца не было денег на приданое, и решил он отдать дочку за богатого, но нелюбимого жениха. Дочка горевала (она любила другого - бедного юношу), но делать нечего - решила покориться воле отца.
Узнал об этом святитель Николай (святителями называют архиереев, ставших святыми). Ночью он потихоньку подкрался к дому и бросил в раскрытое окно мешок с деньгами.
Отец утром встаёт - на полу лежит кошелёк, а в нём - сумма, достаточная и чтоб свадьбу сыграть, и молодым на первое время на что жить. Обрадовалась вся семья, а старшая дочь вышла замуж за любимого человека. Откуда взялись деньги, никто не мог понять, а Николай, конечно, молчал - для него было не важно, похвалит ли его кто, поблагодарит или нет; главное, он считал, чтоб доброе дело было сделано.
А тут вторая дочка того же человека подросла, и встает аналогичная проблема: свадьбу бы сыграть с любимым, да денег нет, и богатый сватается. И опять Николай ночью тайно подбрасывает золото в окно.
Ну а уж как третьей дочери к замужеству время подошло, отец решил подсмотреть, кто же этот добрый человек, что невестам приданое дарит. Спрятался он в комнате и глаз не смыкал всю ночь. И видит в лунном свете: показалась лысая голова святителя Николая, потом его рука швыряет на пол тяжеленный кошелек с золотыми монетами. Выбежал отец во двор и со слезами стал благодарить Чудотворца. А тот просил никому не рассказывать: он стеснялся своей доброты и с виду казался суровым.
А иногда и вправду был суров.
Жил в те времена такой еретик (то есть исказитель учения Церкви) по имени Арий. Он утверждал, что Иисус Христос - просто человек, а вовсе не Сын Божий. С ним спорили, убеждали в обратном, но Арий настаивал на своём и широко распространял это лжеучение. Тогда собрался вселенский собор христиан. Все, кроме Николая, выступают, выдвигают свои доводы. Наконец к нему обратились:
- А ты, Никола, что молчишь?
Он говорит:
- Да что, я лучше посижу, послушаю.
- Нет, ты все-таки выскажи свою точку зрения.
Тогда Николай подходит к Арию и, не говоря ни слова, даёт ему пощечину. Тем собор и закончился.
Поэтому в акафисте (хвалебной поэме) Николаю Угоднику говорится: "Ариа же безумнаго обличил еси", а также: "радуйся, Ариа возбесившагося от Собора святых отгнавый".
Была еще казнь в Ликеях. И палач уже занес меч над головой осуждённого. Никола, который считал, что этот человек невиновен, схватил палача за руку и остановил казнь. При этом присутствовал царь, но Николая так все уважали, что ему ничего не было.
Его называли Угодником за то, что он делал угодное Богу, но не земным царям.
Было и так, что разыгрался шторм на море, и Николай, плывший на корабле, усмирил бурю. С тех пор он зовется Чудотворцем.
Считается, что Николай помогает всем, особенно тем, кому уже никто не может помочь, - заблудшим, отчаявшимся людям, на кого все махнули рукой. Еще его почитают как покровителя лётчиков и моряков, вообще людей, находящихся в смертельной опасности.
В России его особенно любят - за мужество и доброту. Сколько храмов Никольских в любом городе, сколько сёл, сколько мальчиков и мужчин носят это имя!
Да только оборвалось почитание святынь с разбойничьей революцией. Русские люди отвернулись от Бога и Его святых. Начали храмы ломать, жечь иконы и постепенно превращаться в пещерных жителей - даже правителя своего стали звать вождём, как в дикарских племенах.
И исчезла тайна, жизнь стала скучной, без елки, игрушек, зажжённых свечей. Ёлки были запрещены, школьников заставляли доносить, в каком окне видна ёлка: значит, там живут враги народа.
Потом большевики хватились и решили хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь чудо детям вернуть. И вернули рождественскую ёлку, назвав её на всякий случай новогодней. Это тогда именовалось, не удивляйтесь, дети, "пять П": "подарок Павла Петровича Постышева пионерам" (был такой коммунистический начальник - он и добился возвращения ёлки; его Сталин потом расстрелял как врага народа - но не из-за ёлки).
Вот тут-то и появился наш советский Дедушки Мороз - борода из ваты, который с тех пор исправно служит детям нашей страны, принося им радость и счастье в дни Рождества Христова, которые совпадают с зимними школьными каникулами.
На Западе он приходит к ребятам под своим настоящим именем - Санта Клаус (святой Николай), а у нас в России - конспиративно, как Дед Мороз. Он не гордый. Но является с блестящим посохом-жезлом - знаком пастырской власти, в красной мантии и шапке-тиаре - в полном облачении архиерея. И приносит подарки детям - будущим лётчикам и морякам, тем, кто пройдет сквозь бури и штормы этой жизни и понесёт свет рождественской звезды всё дальше и дальше - в завтрашний век.
Но не только в Новый год приходит к нам святитель Николай.
Мне рассказывали: уходил летчик на войну с фашистами. Мать надела ему на шею медальон с изображением Николая Угодника и велела:
- Сыночек, в минуту смертной опасности обратись к Николе - он тебе поможет.
Сбили летчика в бою над Белым морем, выпрыгнул он из горящего самолета с парашютом и упал в воду. Вынырнул - берега не видно. И, вспомнив наказ матери, стал призывать Николу Чудотворца. Смотрит - на горизонте показалась лодка. Приблизилась - в ней сидит старичок, лысый, с седой бородой. Молча протянул лётчику руку, втянул его в лодку и стал грести. Доставил к берегу. Лётчик выпрыгнул, оглянулся - ни лодки, ни старичка...
Ещё был случай. Одна девица всё время читала акафист Николаю Угоднику, так что все над ней смеялись. И вот шла она как-то поздно вечером по кольцевой автодороге - от Лианозова к станции Лось. В районе деревни Подушкино её нагоняет черная "Волга". Сидящие в машине двое мужчин предложили подвезти. Она согласилась, села на заднее сиденье. Машина рванула, развила бешеную скорость, миновала Лось и мчится дальше! Девица просит, чтоб остановили, - мужчины только смеются. Пытается открыть дверь - не отпирается. Тогда она стала читать вслух акафист Николаю Угоднику. И тут машина резко затормозила. В глаза - свет. Задняя дверца отворяется сама собой. Девица поспешно выходит - перед ней стоит седобородый старик. Он вывел её на шоссе, подтолкнул слегка в спину и сказал:
- Иди, да не оглядывайся!
Она прошла метров сто и слышит - сзади взрыв! Обернулась: на том месте, где стояла машина, - море огня.
И сестра мне рассказывала: заходит в храм Николы в Кузнецах (между метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая") рослый мужчина во флотской меховой куртке и спрашивает у каждого:
- Где тут морской бог?
Наконец одна старушка догадалась, подвела его к иконе Николая Чудотворца. Моряк поставил одну за другой и зажег штук сто свечей: видно, Николай спас его от смерти на море.
РАБОТА БЕАТОВА
"Ну и стул, - подумал я почти что матерно, погружаясь чуть не по шею в мягкое, типично дамское сиденье, - сидишь на нём, как на торте! Какая там работа на ум придет при таком комфорте. А спинка - жёсткая, постоянно напоминающая о себе. Типичный стул для секретарши: сиди да помни! Развратный, прямо-таки сексуальный стул!"
Я люблю приходить к Беатову на его сторожевой пост в Петроверигском переулке.
Это очень интересное учреждение. Днём идет своя обычная дневная жизнь, занимаются каким-то транспортом отпетые чиновники, солидные, как колонки цифр, люди. А вечером приходят бродяги-сторожа, бородатые асоциальные рыцари свободного духа.
Дом этот стар и добротен. Окна его, прорезанные в толстых стенах, выходят с одной стороны не во двор, а в коридор, где стоит массивный белый бюст Ленина, который, по сторожевым преданиям, ночами поворачивает голову влево, в окно. Коридор возник как советская пристройка к старому строению. Стены ее тонки, но окна глядят уже точно во двор, на вывеску туристского агентства.
Странная вещь - сидит в кабинете начальник товарищ Шебанов и не ведает, что здесь на сдвинутых креслах ночуют сторожа, слушают его приемник с разноцветно светящимся экраном, едят за его столом и звонят по алому телефону во все города Советского Союза. Странно, странно, что здесь есть дневная жизнь со снующими круглопопыми секретаршами, летучками, разносами и товарищескими выпивками в канун больших государственных праздников, каковыми являются первое мая, седьмое ноября и новый год. Странно потому, что здесь ночами сидит Саша Беатов и читает Бердяева или пишет роман про дядю Колю.
(Помню фразу из этого романа: "В пивной кричал ребенок". И еще: "У нас в России, особенно в дни государственных праздников, чувствуешь невыносимо одиноко - если ты действительно одинок. Как-то Саше не хватило двадцати копеек на книгу. Он пошел в винный магазин. Там дали.)
Сторож - типичная синекура. А дневная жизнь чиновников? Днем здесь тоже едят принесенные из дома припасы, а кроме того, травят анекдоты, возможно, влюбляются, вспоминают детей, выбегают постоять в очередях. А ночью - то киряют католик Федя с Игорем-слесарем, то рисует голых баб и коней художник Витя, то приходит и хмуро сидит - бдит, подозрительно глядя на дверь, старый большевик Иван Нефёдович Хромов, неведомо как затесавшийся в эту компанию.
Ах, какая свобода, какая жажда творчества охватывает здесь меня - случайного гостя этих стен, , совмещающих в себе два мира, две совершенно разных жизни - дневную и ночную!
... А еще здесь появляется королева вечера и утра - молодая седовласая уборщица в затрепанном, застиранном халатике, с ведром и тряпкой, прихватывающей влажными боками захоженный линолеумный пол.
Здесь остаются вечерами не потерявшие надежду разведенки и соблазняют аскетов-сторожей, ведущих с ними духовные беседы.
Странно видеть на столах чиновничьи бумаги с начатыми, неоконченными вензелями: "Уважаемый тов...". И этот рекламный плакат, где нарисована раздвоенная девушка, левая половина которой --летняя, в купальнике в желтую и белую полоску, с белым кружавчатым полузонтом, а правая - осенняя, в красном плаще и под красным же зонтом, сросшимся с левым своим летним собратом, - воспринимается как мечта о какой-то другой, далекой и красивой жизни, несбыточной, как тряпочный очаг, висевший на стене у папы Карло.
(Однажды к Беатову, не знаю уж, почему, придрались дружинники; впрочем, не зря же отец Александр Мень говорил мне, что "глаза у Саши - как у Алёши Карамазова". Завели в отделение, допросили с пристрастием, после чего записали в протоколе: "Католик-бабтист".)
АЛЬМАНАХ
- А, обманщик! - послышалось из очереди в кассу.
Обличавшим меня при всех был одетый в дубленку высокий, розовощекий, седовласый джентльмен - писатель Евгений Иванович Осетров.
Он был одним из руководителей теоретического журнала "Вопросы литературы", которому злые языки завистников дали сокращенное наименование "Вопли". Работал он когда-то и в "Правде" - главной газете страны.
"Осётр - рыба дорогая", - говаривали в литературных кругах. И это была не метафора, а непреложный факт, аксиома писательского бытия: Евгений Иванович любил деньги.
Караванов рассказывал про Осетрова, что тот нередко наведывался в редакцию вечером перед самым выходом номера и правил свои тексты прямо в прессовой полосе, которая не просто набрана из свинцовых полосочек-строчек, которые нетрудно и перебрать, а уже вся целиком отлита из цинкового сплава, причем вымарывал и переписывал по целому абзацу, - что обходилось издательству в копеечку.
- Осетров - чайник! - кричала Горюнова на весь коридор.
И с тех пор всегда, при упоминании Осетрова, он представлялся мне большим фаянсовым чайником с лихо вздернутым розовым носиком и позолоченной ручкой, упертой в округлый, осанистый бок.
Не мог же я поведать почтенному литератору, что мое интервью с ним не напечатано потому, что моя начальница считает его, Евгения Ивановича, чайником. Пришлось терпеть поношение.
В то время много говорили о морали.
- Термином "нравственность", - сказал мне Осетров при встрече, - любят пользоваться люди, начисто лишенные нравственности.
И в другой раз - по телефону:
- Вы - единственное светлое пятно в "Литературной России"...
Летом 1976 года я сказал, в беседе с Осетровым, что, вероятно, не только мы собираем книги, но и книги собирают нас (имея в виду восточно-православное учение о сосредоточении, умном молчании - исихазме в Иисусовой молитве, а также римско-католический взгляд на личность, совпадающий с учением греческих отцов Церкви о соединении ума и сердца, - образ уединенности и единства, собранности всего человека: рыцарь в панцире, монах в келье). Сказал походя, а ему эти слова, видно, пришлись по душе и с его легкой руки пошли по свету: в нескольких статьях самого Осетрова и массе мелких выступлений различных авторов. (На это выражение, как на крылатое, сослался Чингиз Айтматов в одном из своих интервью 1978 года.) По этой причине или по другой, Осетров помнил обо мне и изредка о себе напоминал.
Он указал мне на старика Чуванова - владельца огромной и редкостной, даже по московским понятиям, библиотеки:
- Он старообрядец, но вы это не особенно педалируйте.
Библиофильства я тогда не понимал, помня заповедь: "Не собирайте сокровища на земле, где тля ест и воры подкапывают и крадут. Собирайте сокровища ваши на небесах. Там, где будет сердце ваше, там будет и сокровище ваше".
Мне очень нравилась история, которую рассказывали про американского джазмена Эролла Гарнера. У него не было вообще никакой собственности: жил он в отелях, переезжая из города в город, с концерта на концерт; питался в ресторанах; рубашку, день поносив, не стирал, а выбрасывал - покупая тут же новую. Единственной вещью, которой пианист дорожил и с которой не расставался никогда, была книга. Это была большая телефонная книга Нью-Йорка, которую он подкладывал на стул во время своих выступлений, найдя ее лучшей из возможных подушек.
Кстати, раз уж о нем зашла речь - однажды, когда музыканта записали на пластинку и стали прослушивать - что такое?! - к звукам рояля примешивалось какое-то зудение: как будто в студию залетела муха. Хотели уже было расплавить восковой оригинал, но потом решили послушать еще раз. И тут только кто-то догадался, что Эролл Гарнер, играя на рояле, мурлыкал при этом мелодию себе под нос - а, значит, выступил впервые еще и как певец. И эта запись, казавшаяся поначалу производственным браком, стала золотым диском
Но крайности нестяжательства и спонтанности - все же крайности. К тому же богословско-историческая библиотека Михаила Ивановича Чуванова была сокровищем, конечно, не только на земле, но и на небесах. Серебрянобородый, приземистый, румяный, он собирал ее всю жизнь, начиная еще с гражданской войны (обходил с котомкой чердаки и подвалы, толкучие рынки, на последние гроши скупая старопечатные, рукописные книги, которым судьба была - стать куревом и топливом в те взметенные вихрями событий годы), - а проработал всю жизнь наборщиком в типографии и был в свои 90 лет лидером старообрядческой общины поморского согласия.
- Вот так и спасаемся, - сказал мне Михаил Иванович, лучезарно улыбаясь.
Потом пришел секретарь Чуванова Миша Гринберг - здоровенный детина с фиделе-кастровской бородой и такой же сигарой, ставший с моей легкой руки публицистом Зеленогорским (страха ради литроссейска).
Гринберг крепко дружил с соседом - православным священником отцом Серапионом. И всякий раз, дружески напившись, батюшка задавал моему автору один и тот же сакраментальный вопрос:
- Когда же ты, Миша, наконец, покрестишься?
На что Михаил Львович столь же неизменно отвечал:
- Как только вы, отец Серапион, обрежетесь.
Чуванов, как и полагается, отсидел в довоенные годы в тюрьме (почему-то за антисемитизм); рассказывал, как в двадцатых "красный директор" типографии, усмотрев в полиграфическом значке-украшении политический подвох, гонялся за ним с пистолетом... Конечно, в мой очерк эти пряные детали не вошли.
По обыкновению, я проводил все выходные в Новой Деревне у отца Александра Меня, а на буднях исправно исполнял обязанности корреспондента писательской газеты.
Случилось так, что ответственный секретарь "Литроссии" Илья Семенович Пчёлкин заметил однажды выглянувшую у меня из-за распахнутого по летнему времени ворота рубахи стальную цепочку и спросил, больше в шутку, чем серьезно, не крестик ли у меня там.
В это время как раз готовилась новая - "брежневская" конституция, досужие авторы, по призыву партии, охапками присылали во все редакции свои "поправки" к ней, а наш тогдашний настоятель отец Порфирий (организатор, как мы его назвали, "комсомольско-молодежного" хора у нас в приходе) предупреждал, что власти сейчас интересуются, много ли верующих в стране; если много - могут пойти на уступки; а если мало - то окончательно изведут и религию, и церковь. Поэтому он настоятельно (извините за каламбур) рекомендовал всем прихожанам, если их будут вопрошать о вере, не скрывать ее. (Отец Порфирий любил меня за усердное пение на клиросе и подарил мне довольно дорогой православный богослужебный сборник, которым я пользуюсь и по сей день.)
Я и ответил Пчёлкину на его вопрос, не крестик ли у меня там:
- Да.
- Так вы что же - верующий? - спросил он, похоже, надеясь перевести это в плоскость юмора. В его представлении нормальный человек (каковым он считал, в частности, себя самого и меня) верующим быть никак не мог.
Я говорю:
- Да, верующий...
А народу, надо сказать, в секретариате толпилось в тот момент предостаточно. Пчелкин побледнел и вышел вон.
Через две минуты на моем рабочем столе затрезвонил телефон.
- Володя, зайдите срочно ко мне! - голос Горюновой. (Её кабинет был напротив моего, через коридор, но мы всегда перезванивались, как на корабле.)
- Володя, вы идиот! - заявила моя начальница, как только я вошел. - Идите сейчас же к Пчёлкину и скажите ему, что вы пошутили: что это никакой не крест, а брелок - вам девчонка подарила.
- Как же я могу солгать?..
Она надела защитные очки и, хлопнув дверью кабинета, побежала к начальству сама.
Но было поздно. Слух о моем христианстве уже разнесся по редакции.
От меня шарахались, как от дикого зверя. Вспоминали всякие странности и загадочность поведения.
Редакционные перетолки мне добросовестно передавал Гриша Козлов - мой сосед по кабинету - обаятельный и очень целеустремленный молодой человек. Так что я был в курсе всех новостей, несмотря на анафему и бойкот.
...Через пару дней в кабинет Горюновой (куда я был заранее вызван) зашёл Паша Загорунин - секретарь партбюро. До странности официально - ведь мы до этого были с ним на "ты" - заявил:
- Володя, несмотря на то, что вы верующий, мы не станем вас увольнять. - (И мудрено: лучше меня во всей "Литроссии" работал, наверное, один только Пчёлкин.) - Но вы должны чистосердечно раскаяться и назвать своих сообщников.
Горюнова смотрела на меня с затаённой надеждой - на покаяние, конечно: расставаться со мной ей не хотелось.
- Я готов остаться в редакции, - ответил я, подумав. - Но не на любых условиях.
- Но... это хотя бы не секта? - осторожно спросил Загорунин.
- Какая еще секта? - обиделся я. - Русская Православная Церковь.
- Слава Богу! - облегченно выдохнул парторг.
Дали мне две недельки на поиск новой работы и оставили в покое.
- ...Будьте с ним предельно вежливы. Это человек с высоким интеллектом, - сказал Осетров обо мне по телефону.
Я сидел напротив.
- Я не очень представляю, как вы сможете работать в Обществе книголюбов, - сказал он, положив трубку. (Осетров брал меня к себе в помощники - ответственным секретарем "Альманаха библиофила".) - С ними не смог сработаться даже такой человек, как Феликс Медведев.
Я довольно самонадеянно - деваться-то все равно было некуда - заявил, что попробую.
Приятель-переплетчик, автор знаменитого "Поручика Голицына" (вспоминаю фразу из его мистической повести: "В одном укрепрайоне не держался средний комсостав") попытался, правда, устроить меня редактором на киностудию, где у него на довольно высоком посту работал друг, но тот после встречи со мной усомнился, смогу ли я "отстреливаться из двух пистолетов" - что требовалось по условиям тамошних творческих взаимоотношений. К тому же надо было знать всех актеров наперечет, а с этим у меня и вовсе слабовато. Так что я предпочел дело книжное - более знакомое и спокойное, - не подозревая всей сложности этого пути.
Место моей будущей работы поразило мерзостью запустения и какими-то хароновскими тенями, скользившими по коридорам.
Председатель Общества книголюбов Бурилин смотрел на мир преувеличенными - линзами очков - коровьими глазами в пол-лица. Он был прежде директором книготорга, а до этого - первым секретарем окраинного обкома партии. Все знали, что Бурилин каждый вечер, придя с работы домой, напивается до потери сознания.
- Скажите Бурилину, что мы готовы заплатить ему вперёд, - посоветовал мне Осетров по поводу передовой статьи для очередного номера альманаха. Я счел это неудобным, что несказанно его удивило: "Ну, как знаете".
В правлении Общества книголюбов работали в основном жены советских сановников и бывшие начальники - партийные и гэбэшные, вышедшие в тираж. Все там были какие-то странные - не зря говорят, что Бог шельму метит.
Пахнувший почему-то свинцом и порохом производственник Удодов, непрестанно куривший "Дымок" на лестничной площадке, ходил весь скрюченный, как знак-параграф. У старшего экономиста Паршина пальца недоставало. У председателя месткома Сомова не хватало уже нескольких пальцев на левой руке. Мужчина он был видный, холеный, довольно молодой, и непонятно было, кто ж ему эти пальцы отъел.
Отставной полковник Морозов, руководивший пресс-группой, ступал тяжело, одним глазом косил, говорил с картавинкой, люто ненавидел евреев и рассказывал дамам на ушко похабные анекдоты. У него было два любимых выражения: "мне родина и партия дали все" и "язык в жопу", которое должно было означать предельную, военную степень секретности. Больше всего в людях он ценил образованность и порядочность. О секретаре партбюро "Надьке" Шершавенко по секрету сообщил, что она не только книг, но даже газет не читает.
Грузинистый дядечка из планового отдела был когда-то личным помощником Косыгина, а добродушнейший Максим Севастьянович с мордой башибузука, ведавший ротапринтом, служил в охране Сталина.
Кадровик Делов, вечно ходивший с расстегнутой ширинкой, был прежде дипломатическим генералом.
Парторг Шершавенко, черная, с мягким "г" и вострым темноватым глазом, ходила, сильно выпадая левым бедром. Спервоначалу казалось, что она чрезмерно кокетливо виляет задницей, а потом уже становилось ясно, что это ревматическая хромота.
Только вице-председатель Забродин не имел физических дефектов, но имел нравственный: был когда-то военно-морским атташе в дружественной Стране Советов державе и на этом посту каким-то образом проштрафился. Мужик он был неплохой, носил адмиральскую бороду. Слыхал я, что он исправно посещает старообрядческий храм на Рогожской заставе. Он увлекался рыбалкой, особенно подледным ловом.
Порой Осетров исчезал, как в воду погружался до дна - уезжал за границу. Но жизнь нашей редакции продолжалась без особых треволнений - пока не вернулся после трехмесячной болезни еще один вице-председатель Общества книголюбов - Борис Антонович Корчагин. Он засел в кабинете-берлоге и начал наводить железный порядок - в чем и видел свое основное назначение в этой шарашкиной конторе.
Тяжелая полированная дверь то и дело отворялась, и оттуда, пылая щеками и подбирая с полу вышвырнутые Корчагиным бумаги, вылетала очередная жертва его руководящей ярости.
Борис Антонович мучился запорами и скоплением газов в кишечнике, за что ненавидел весь свет. Он постукивал по столу искалеченной лапой, как рак клешней.
Корчагин всю жизнь просидел на бумаге - через него шло материально-техническое снабжение всех издательств страны. Большее могущество в государстве с централизованной плановой экономикой трудно себе даже представить. И теперь ему - всенародному пенсионеру, цековской номенклатуре - было странно и немного смешно отправляться на работу пешком, без персональной машины.
- Я уж хотел было на все плюнуть, - сказал Корчагин в нашей первой беседе (во время которой аксиоматично объявил, что я для него - "пирожок ни с чем"), - но в издательстве мне пролонгировали договор на книгу.
Ему нравилось это длинное красивое слово - "пролонгировать".
(Эту книгу - об издательском деле в СССР - написал за него главный редактор издательства "Книга" Евсей Наумович Байкин - навек испуганный человек в клетчатой ковбойке и кожаном пиджаке.)
- Что же касается квартиры, - сказал Корчагин, - определенного я вам ничего пообещать не могу, но сбрасывать нас со счетов не надо...
Говорил он, как и всегда, многозначительно, с намеком на таинственные глубины своих возможностей, которые до времени, для пользы дела, лучше не открывать, чтобы потом они враз явились во всей своей полноте. И собеседник верил. И верил совершенно напрасно: Корчагин был лжецом - причем лжецом принципиальным, тонким, ухищренным, которого и за руку-то невозможно было поймать. Он и сам, по-видимому, не видел существенной разницы между правдой и ложью - так уж сложилась его жизнь. В 37-м году, в тридцать неполных лет стать начальником главка - для этого нужны были феноменальные и вполне определенные способности.
(Вот так же, по свидетельству современников, не различал правду и ложь Алексей Максимович Горький, который жил словно в двух параллельных мирах - историческом и иллюзорном: он несколько месяцев уверял убитую горем мать, что сын ее, сидящий в "чрезвычайке", жив - из самых лучших побуждений - чтоб "не переступить порог надежды", - отлично зная, что этот человек уже давно расстрелян и прах его развеян по земле.)
Корчагин страдал запорами и ненавидел из-за этого весь белый свет. Он завидовал всем, у кого кишечник работал нормально. Запах свежего кала вызывал в нем бешеное чувство зависти и ревности, как что-то маняще-недоступное, почти эротическое. И когда о чем-то или о ком-то говорили: "дерьмо", - это вызывало в Корчагине положительную эмоцию. Поэтому все представления о том, что плохо и что хорошо, были у него перевернуты.
Везде Корчагину виделись кишки и кучи дерьма. Он любил змей.
Время от времени Корчагин скрывался в кабинке туалета и долго тужился там, пытаясь выжать хоть что-нибудь из толстой кишки, - но тщетно. Он тщательно мыл руки, выходил, удовлетворенно улыбаясь, но обмануть никого не мог - все центральное правление знало, что Корчагин страдает запорами, так же как Бурилин - запоями, а Забродин - старообрядец, хоть и бывший военный атташе.
И все посмеивались над Корчагиным (потихоньку, конечно), как над старичком, женившемся на молодой.
Дина Мухаметдинова опять, как обычно, собралась в командировку в Душанбе.
О том, что Бурилин, как всегда, поедет в одном купе с Диной Мухаметдиновой, говорили спокойно, как о погоде. Он ездил, разумеется, в мягком вагоне, в двухместном купе.
- Борис Антонович, соберите нас, пожалуйста, - попросил плановик Старуханов.
Полковник Морозов, кося одним глазом, как бы прицеливаясь, скользнул в кабинет, сделал реверанс одной ногой, быстро шагнул в Корчагину, протянув обе руки, склонясь, пожал протянутую вялую ладонь и отступил, качнувшись затылком и всем корпусом назад.
- Здрассте, Борис Антонович! Как самочувствие?
Корчагин кисло улыбнулся, махнул рукой: дескать, стоит ли о таких пустяках?
- Я вас вызову. ...
Морозов исчез.
Делов так и сидел с расстегнутой ширинкой, что не совсем подобало дипломатическому генералу, хотя бы и в отставке.
...На плечах, окутанная дымкой ватных волос, одуванчиком плыла голова Корчагина - с большим лбом, вислым носом, карими глазками навыкате.
Удодов с Мотаевым кинулись подавать ему пальто.
- Спасибо, ребята, - стеснительно поблагодарил Корчагин, заметно растроганный...
- Он меня зовет: Молодой Человек, - иронически сказал Мотаев.
Догмара Витальевна Пуховская враз оживлялась и становилась бурно разговорчивой, когда речь заходила о предметах и явлениях, понятных и знакомых ей, - например, о вязаных кофточках. Иногда приходил ее супруг - смутный, анемично-сероватый, грузный субъект в толстых очках - служитель какого-то райкома. Она держала его в руках. Он ее заметно побаивался.
Пуховская дважды съездила с Корчагиным в Грузию. Наверное, у него что-то не получилось, потому что вскоре он ее выгнал, - сначала, после первой поездки, слегка приподняв: сделав начальником производственного отдела. После второй поездки фортуна Догмары Витальевны резко скакнула вниз.
- Надо же - десять рублей потерял! - бил себя по лбу Мотаев, имея в виду разницу в зарплате против прежней работы. - Идиот! Нет, завтра же - заявление на стол!
Но работал потом долго, может, и сейчас там же сидит. Его жена тоже служила в райкоме партии, чем он очень гордился и иногда туманно грозил.
Еще у них было любимое выражение: "Партбилет на стол", имевшее в виду финал служебной ошибки и личную катастрофу.
- Я бы, конечно, разрешил, - говаривал Корчагин, - но партбилет у меня один.
(Попытки шантажировать меня возможным невступлением в партию - что должно было звучать угрожающе - я сразу отсек, сказав, что я и так недостоин и в партию вступать не собираюсь. Это было воспринято как парадокс, но больше к этому вопросу Удодов не возвращался.)
...Это трудно объяснить. Осетров был нашим главным редактором, но в штате официально не состоял, объясняя приятелям, что занимается альманахом из какого-то странного фанатизма. Переходить из "Воплей" в руководящий состав Общества книголюбов - номинального хозяина "Альманаха библиофила" - даже при том, что зарплата его увеличилась бы вдвое, - он не решался: ему немыслимо было даже представить себе, как можно дышать одним воздухом с такими людьми. А вот два его помощника, одним из которых волею судьбы стал ваш покорный слуга, формально числились в правлении этого пресловутого Общества старшими редакторами производственного отдела и должны были подчиняться, соответственно, двум руководителям - Осетрову и Корчагину, не считая еще всякой местной шушеры, которая требовала участия в идиотских собраниях, субботниках, приставала с нескончаемыми пустыми разговорами да еще и лезла в содержание книги. Например, Удодов, возненавидев за что-то нашего автора Хвощана (и вправду, надо сказать, малоприятного человека), стал требовать, чтобы я не пускал его на порог и ни в коем случае не печатал (тот, кажется, нелестно отозвался о ком-то из книголюбской шатии). Видя, что я игнорирую эти домогательства, мой мелкий начальник дошел до Корчагина, который стал грозить мне всеми доступными ему карами.
А Осетров гневно требовал:
- Печатать!
Дело осложнялось еще и тем, что в типографию наш альманах мог отправляться только с визой издательства "Книга", у сотрудников которого были свои счеты с каждым из моих шефов, да и свои вкусовые притязания.
(Иногда они ненавидели меня, как талантливого русского мастерового.)
Моим бичом стал редактор издательства "Книга" Савелий Моисеевич Розенфельд. Въедливый, как полевая мышь, он заставлял по десять раз переправлять и переписывать на машинке абсолютно готовую рукопись альманаха, придираясь к каждому слову и сглаживая текст, превращая древо в телеграфный столб - надо сказать, довольно аккуратный, но уже лишенный шумящей кроны и корней, да и коры. Вот так мы и сражались - от выпуска к выпуску, теряя время, споря, ругаясь, приходя к затейливым компромиссам и досадным соглашениям.
С пор у меня сложилась редакторская манера вообще не вмешиваться в текст, который представляется мне эманацией личности - святой и неприкосновенной. (Но с этим, конечно, не обязательно соглашаться.)
По-моему, на Западе нет литературных редакторов в нашем смысле слова. Там есть агенты по связи с общественностью, чья задача - получше пристроить книгу.
Огромное число редакторов в коммунистической России возникло потому, что в литературу, после отстрела и изгнания образованного сословия, хлынула гигантская армия безграмотных авторов.
(Мы воспроизводим некие ущербные формы культуры, где маразматик Горький становится классиком.
Начальство, за которое почему-то всегда бывает стыдно.)
Но, вопреки всему, книга выходила, моментально исчезала с прилавков и считалась одним из культурнейших изданий в Москве. Купить ее можно было только по блату.
...Регулярно позванивал Гриша Козлов, рассказывал, что его притесняют в "Литературной России" - из-за дружбы со мной. Да и работа там была, прямо скажем, на износ: газета есть газета - не то, что степенный, выходящий раз в полгода альманах.
А тут как раз уходила в декрет моя напарница (Корчагин выразился так: "Галина Викторовна отправляется выполнять ответственное государственное задание"). Ее место на год высвобождалось.
Я порекомендовал Гришу обоим моим начальникам. Красивый, хорошо воспитанный мальчик понравился, его взяли.
Еще работая в газете, Гриша никак не мог купить себе приличные башмаки - это был страшный, почти безнадежный дефицит. Тогда он объявил: "Буду носить советское дерьмо" - и приобрел отечественные "говнодавы". Но через пару недель хождения в них едва не лишился ног.
Так Гриша убедился в ненадежности аскезы.
Однажды вечером гардеробщик - кажется, в городской столовой - спрятал новую Гришину шапку и сказал, что никакой шапки не было. Пришлось идти домой с непокрытой головой. Наутро, в старой шапке, Козлов отправился к директору столовой. Крашеная дама выслушала Гришу и сказала: "Так вот же ваша шапка - у вас в руках!"
Гриша понял, что за жизнь надо бороться.
Умер тесть. Козлов пришел в контору кладбища. Похоронщики стали вымогать взятку, хамить. Гриша пригрозил газетным фельетоном. Тогда заведующая заперла дверь кабинета и сказала:
- Молодой человек! Я вот сейчас позвоню в милицию и скажу, что вы устроили здесь дебош и пытались меня изнасиловать. Свидетели подтвердят.
Свидетели сидели тут же и благодушно попивали "Юбилейную".
- Но мне жаль вашу молодость. Вон отсюда!
Гриша начал потихоньку сходить с ума.
- ...Это и есть та апельсиновая корочка, на которой он поскользнулся, - сказал Корчагин, имея в виду деликатность моего положения между трех огней.
Вообще-то говоря, Борису Антоновичу по душе была перспектива в любой момент вызвать меня "на ковер", чтобы за что-нибудь распечь: формально он был моим начальником.
- Тогда у вас наступит пика, - говаривал он, имея в виду момент сдачи номера в печать.
Единственное, на что не распространялось руководящее влияние Корчагина, - это содержание альманаха, что очень гневало вице-председателя, - но на то были главный редактор и его правая рука - ответственный секретарь. А влиять хотелось (не случайно он столько лет просидел на бумаге - источнике всемогущества).
Осетров, правда, тоже мало вмешивался в содержание, предоставив мне карт-бланш. Чаще всего, просмотрев план выпуска, главный редактор деловито подтверждал:
- Это может быть, - подбрасывая от себя какую-нибудь рукопись или идею.
Но очень тщательно вычеркивал, уже в гранках, фамилии Гумилева и Ходасевича - "страха ради коммунейска", как сказал бы Николай Алексеевич Клюев.
Однажды я застал Евгения Ивановича в глубокой задумчивости. Увидев меня, он встрепенулся и сказал:
- Представьте себе - я сейчас сидел и думал о вас.
- Вот как?
- Да. - Он помолчал, погрузившись в медитацию, а затем неожиданно продолжил: - Прежде чем взять вас на работу, я ведь позвонил и спросил о вас Горюнову.
- И что же она вам сказала? - несколько бесцеремонно поинтересовался я, заинтригованный его откровенностью.
- "Работник прекрасный, может быть - идеальный, - продекламировал Осетров, полузакрыв глаза. - Но капризен и нуждается в жесточайшей дисциплине". - И зачем-то добавил: - Есть люди, чья похвала оскорбительна.
Он сам был мастером блестящих характеристик, приговаривая всякий раз: "Я знаю путь каждого".
О моем предшественнике Акутине рассуждал так:
- Он хороший функционер, который считает себя бурным гением. Такие случаи бывают: я знаю одного поэта, который, при среднем даровании будучи превознесен, считает себя непризнанным философом, - и это, по его мнению, составляет и его личную трагедию, и трагедию века.
Вспоминал бывшего главного редактора "Правды":
- О покойном Сатюкове говорили, что он видит не только прошлое и настоящее человека, но и его будущее. Единственное, чего он не смог предвидеть - это свое будущее.
Почтенную даму - постоянного соавтора еще более почтенного критика и поэта - совершенно открыто, даже в торжественных речах, называл: "его боевая подруга".
Осетров ежедневно вставал в пять утра и писал до девяти. После чего включал телефон и, в ответ на извинения за ранний звонок, деловито информировал:
- Я уже давно и довольно плодотворно работаю.
Вечерами его телефон никогда не отвечал.
Как-то Евгений Иванович поделился со мной своим творческим секретом - что делать, когда "не пишется":
- Возьмите чистый лист бумаги и пишите: "Мне не хочется писать, мне не хочется писать..." Часа через два захочется.
Над столом в его домашнем писательском кабинете висела большая цветная фотография хозяина с архиепископом Макариосом - с дарственнной надписью на новогреческом языке.
Главный редактор научил меня никогда и никому не рассказывать ничего о том, что делается в стенах редакции. И сам, если звонили из правления и интересовались, что у нас новенького, извещал предельно лаконично:
- Здесь абсолютно ничего не происходит: идет обычная, нормальная работа.
В ответ на неустанные и неусыпные инсинуации книголюбов главный редактор недоуменно разводил руками:
- Мне бросают какие-то упреки - а я даже не понимаю, о чем идет речь.
А когда ему жаловались на наше с Гришей непослушание, благодушно-сочувственно сетовал:
- Я пытаюсь их воспитывать - но это очень трудное дело.
Когда Осетров хотел смешать кого-нибудь с дерьмом, он обычно рассказывал всюду, что эти люди звонят ему каждую ночь по телефону, угрожают, чего-то требуют или что-то предлагают. Это производило неизменный комический эффект, а опровергнуть было невозможно никак.
Евгений Иванович любил называть себя нищим, бессребреником, что нисколько не мешало ему регулярно наведываться за рубеж.
Возвратившись, рассказывал предельно скупо:
- Была хорошая погода - временами... В общем, я славно поработал.
- А как Париж?
- Было много книжных впечатлений. Должен сказать, что в букинистических у нас интереснее...
Но как-то раз не выдержал и, расправив плечи в светло-сером карденовском пиджаке, триумфально выдохнул:
- Ну где же еще и бывать Осетрову, как не в Париже!
И никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно, - интонация была неуловимо ироничной и двусмысленной, до колик раздражавшей дураков.
...Я вспоминал о "книжных впечатлениях" Осетрова, бродя по набережной Сены, сырой и серой, среди букинистических коробов, где выставлены щемящие сердце раритеты и акварели с видами Парижа, где меланхолический шарманщик с попугаем на плече свивает звенящие пряди как будто с детства слышанных мелодий под тихий шелест автомашин, спешащих уступить вам путь, и опавшей листвы под подошвами устало шагающих ног... Его уже не было в живых.
Мне вспоминаются стальной затылок центуриона, пухлые щеки, нахохленные совиные брови над леденящими ключами прозрачных, всего навидавшихся глаз... Он был простой и добрый барин.
В неясных ситуациях Осетров обыкновенно говорил:
- Пусть пройдёт время.
И очень часто - о действиях наших заклятых друзей:
- Это попахивает провокацией.
Но дело шло. Чредой тянулись авторы - и какие! - знакомые мне еще по "Литроссии". Оживал на наших страницах полузабытый "серебряный век"...
- Альманах становится неуправляемым.
Корчагин корчился от гнева, но поделать ничего не мог.
- Анархия - мать порядка? - спросил меня очередной раз Борис Антонович, по обыкновению, нервно постукивая левой искалеченной рукой-клешней по столу.
(История с опубликованным вопреки его запрету Хвощаном не давала вице-президенту покоя.)
- А вершит там всеми делами некто Розенфельд, - сказал Удодов со значением, склонившись к Корчагину, без улыбки, чуть потупясь, в ожидании якобы не ведомой ему реакции. Корчагин побагровел.
Вскоре, выгнав Пуховскую, он назначил Удодова начальником производственного отдела, в котором формально числился и я.
Узнав об этом, я подал заявление об уходе. Две недели проболел.
Я жил в избушке, в Пушкине, топил камин и, глядя на огонь, излучавший свет и тепло на четыре метра, за которыми были холод и тьма, ощущал одиночество и случайность огня в вихрях бело-черной беззвездной, взметеленной ночи, когда ни звука не раздается за стеной, ни заплутавший путник, ни друг, ни враг не войдут в этот дом, затерявшийся в лабиринте изгородей и троп. А если бы в небе стояла луна, она наводила бы еще большую волчью, морозную тоску, обжигающую душу, как край заиндевелого, выстывшего к утру ведра.
Огонь жрал дрова, жара, взметнувшись, спадала, гасли синие жарки, и я засыпал, не ведая, куда занесет этот плот стихия тьмы и что меня ждет за порогом зимы.
Билась в окна, змеилась ранняя жгучая поземка, позванивали стекла. Дом был каютой на корабле-земле, рассекающем вязкую, зыбкую, зябкую пустоту пространств, где не оставалось места разуму и теплу.
- Где Ты, Сильный, который все сотворил? Зачем Ты бросил меня в этот холодный, враждебный, чуждый мир?..
Вернувшись на работу, я узнал, что Осетров "выпросил" нас с Гришей у Корчагина: альманах должен выходить - так какая разница, где именно мы будем сидеть - в конторе книголюбов на Пушечной или у него под боком, в бывшей дворницкой десятиэтажного дома Нирнзее - резиденции "Воплей", - он за нами проследит. Корчагин, скрепя сердце, согласился.
И мы перебрались - даже не под крышу, а на крышу первого московского небоскреба. Комната, которую выхлопотал для нас в своей редакции Осетров, помещалась в башенке - архитектурном украшении.
- А почему же нет хотя бы дивана? - спросил Евгений Иванович, недоуменно оглядываясь по сторонам.
- Диваны запрещены - решением ЦК, - невозмутимо ответил, посасывая кривую трубку, завредакцией Валунов. И пояснил: - Секретари рожают.
И мне представилась Старая площадь, толстые, лысые секретари ЦК КПСС, рожающие после нудных заседаний на пухлых кожаных диванах...
В окно была видна знаменитая крыша, описанная еще Михаилом Булгаковым (в годы нэпа тут располагался ресторан). Иногда мы выходили на ее битумную поверхность и разглядывали сверху улицу Горького, Тверской бульвар...
Надо сказать, что Осетров обладал завидным чувством юмора и обожал невинные розыгрыши. Так, вызвав однажды меня к себе по телефону, он загадочно произнес:
- Владимир Петрович, по Москве ходит упорный слух, что Акутин убит, что его зарезали. - (В то время убийства были еще редкостью.) - Постарайтесь аккуратно проверить - у родных или еще где-либо. Только чтобы это не было очень явно.
Я справился о сроках и кинулся исполнять. Другого импульса у меня и быть не могло - "Литроссия" вышколила. С такой школой попасть в мир барского кривляния и шутовства было, конечно, наивно и погибельно.
(Впрочем, была ли это только шутка - если Акутин месяца через два после этого разговора взял да и в самом деле помер?)
- Гонорара авторы альманаха на сей раз не получат, - радостно известил меня Удодов по телефону. - Наша бухгалтерия не пропускает ваши расценки.
- Мы подаем на вас в суд, - ответил я и бросил трубку.
Книголюбы, когда их финансовая диверсия не прошла, затаили ревность и злобу.
На все и любые переговоры с ними я посылал Гришу Козлова - человека проверенного, который к тому же в принципе не мог никого раздражать. А на себя взял контакты с "Книгой" - тоже тяжелые, но все же лежащие в пределах умопостигаемой реальности.
В Обществе книголюбов мои улучшившиеся отношения с издательством расценивали как оппортунизм.
- Как его там - Розенцвейг или Розенкранц? Я все время забываю, - пробурчал Корчагин.
- Розенфельд, - мягко улыбаясь, поправил Гриша Козлов.
- Да, да, - Борис Антонович брезгливо поморщился, постучал клешней по столу...
(Вообще-то "антисемит" - очень обидное звание. Что-то вроде сифилитика или педераста.)
В Москве начались всемирные игры. Всякую ненадежную публику отогнали за сто первый километр, детей отправили в лагеря, комсомольцам-дружинникам выдали нарядные казенные костюмы, а тучи, чтоб не набегали, разогнали военной авиацией.
Коротко подстриженные рослые молодые люди с армейской выправкой, медленно печатая гусиный шаг, несли полотнище с олимпийской эмблемой.
На трибунах сидели люди-роботы, менявшие разноцветные дощечки, создавая сотканный их телами яркий орнамент. Вот некоторые из них выстроили помост из дощечек, по которому взбежал спортсмен с факелом. Как в древнем Египте.
(Пётр Демьянович Успенский, рассматривая мифы о титанах, циклопические постройки и смутные воспоминания человечества о ранних, нечеловеческих цивилизациях, пришел к выводу, что первой, неудачно завершившейся попыткой сотворения разумных существ были гигантские пчелы и муравьи. Но насекомые эти создали столь мощную и эффективную социальную организацию, что она без остатка поглотила и подчинила себе, растворила в коллективизме самую возможность личной индивидуальности. И их развитие остановилось и прекратилось навсегда; началось вырождение. То же случилось и с термитами, когда-то разумными. Термиты потеряли не только крылья и ум, но даже пол, о чем с грустью писал Метерлинк.)
Журналистам, спешно набранным в скороспелые спортивно-карамельные издания, обещали работу в МИДе, а потом они целый год толпами бродили в поисках места.
После Олимпиады естественной стала Продовольственная программа.
...Гриша, что-то в душе затаив, стал прятать от меня рукописи и вообще устраивать всякие мелкие и крупные пакости. Я долготерпел по-христиански, потом воззвал к фаллическим богам...
- Молодые люди, - поднявшись к нам на крышу, сказал Евгений Иванович со свойственной ему добротой. - Я многое повидал в своей жизни. На фронте я видел такие вещи, которые не могут прийти вам даже в голову. В современной войне победителей не бывает.
Он был, безусловно, прав.
Козлов, что ни день, зачастил к Корчагину, и я был доволен тем, что мой напарник избавляет меня от встреч с чрезмерно кровожадным красным кхмером.
А закончилось все это вполне компактным совещанием в нашей крохотной редакционной комнатушке над крышей небоскреба Нирнзее.
Участвовали четверо: Осетров, Корчагин, Козлов и я.
- Повеяло свежим ветром, - резюмировал главный редактор, втянув ноздрями воздух. Он, видно, на что-то решился. - Я рад тому, что этот разговор состоялся. Борис Антонович с большевистской прямотой вскрыл все наши проблемы.
При этих словах ему, вероятно, вспомнилось пионерское детство на реке Осетре (он произносил по старинке: "пионэр"), отряд имени Павлика Морозова, в котором он воспитывался...
Корчагин молчал, устремленный сычиным взором в себя.
Что вспоминалось ему? Местечковые подсолнухи на юго-западе России, откуда он вынес свое мягкое "г", комсомольская юность в ячейке, где они так бурно меняли свои неблагозвучные фамилии на Октябрьских, Первомайских, Островских и Корчагиных? А потом и отчества, чтобы удобней было править этой тупой и отсталой страной (отговорил же Ленин Льва Каменева от президентства после смерти Свердлова: неудобно, что в такой крестьянской стране, как Россия, президент - еврей; и председателем стал серенький Калинин); и забытый, пропахший гнилой селедкой и чесноком Арон-Мейлах превратился в никогда не существовавшего Антона... Или первый донос на начальника, пошедшего сразу по этапу? Или как топал, как швырял бумагами в лицо железный нарком Каганович? Трудно сказать.
- Словом, альманах надо укреплять, - подытожил Корчагин.
Означало это только одно - что меня выгоняют с работы.
Я пролепетал что-то о готовности исправиться, все наладить и улучшить.
Гриша выжидательно и с какой-то затаенной надеждой, преданно смотрел на начальство, стараясь не глядеть в мою сторону.
Гриша-дворник, Гриша-студент в красно-зеленой клоунской кепке. Гриша, единственный, на кого я мог положиться в последние мои литроссийские недели. Гриша, на которого дуло из алтаря новодеревенской церкви, когда мы ночевали там на Пасху...
("На свечку дуло из угла, и жар соблазна...")
...Как-то Гриша попал в гости. Хозяйка - энергичная женщина. Муж - боксер Фрол - полковник госбезопасности. Квартира от Министерства геологии. Сын (таз - плечи: борец). Американский подкассетник. День рождения.
- Девочки! Красиво жить никто не запрещает.
Гимнастика. Прана.
(Гриша все искал "шамбалу" - и не находил...)
Мужа она называла "пиджаком".
- Давайте выпьем за нашу родину. Где еще я могла бы так жить?
("...Вздымал, как ангел, два крыла крестообразно".)
...У Гриши Козлова был друг-кагэбэшник.
Он приходил в гости, садился на кухне и говорил:
- Мы - люди невидимого подвига, те, о ком не пишут в газетах.
Еще он называл себя бойцом незримого фронта.
Когда он пришел первый раз, Гриша очень испугался, что друг (бывший одноклассник) увидит религиозную литературу и всякие бумаги в кабинете на столе.
Но другу на бумаги было плевать - он пришел не за этим, а просто выпить и поговорить по душам.
("И все терялось в снежной мгле, седой и белой".)
- Мне родина и партия дали все, - сказал Морозов.
("Свеча горела на столе...")
И все будет отнято - болезнью, старостью, смертью.
...Они думают, небось, что мне обидно оттого, что пришлось покинуть альманах. А я горюю о гражданской войне, которая так и не кончилась, и скорблю о разгроме страны и разрухе культуры.
- Вот так и спасаемся, - сказал Чуванов, лучезарно улыбаясь.
("...Свеча горела".)
С улицы доносился тревожный, горьковатый запах ладана. Церковь всегда в походе. Дым костров на привале странников.
Часть пятая
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
ШИНЕЛЬ
Разночинцы были так тоскливы из-за своего атеизма.
"Все мы вышли из гоголевской шинели".
Гоголь совершил удивительную подмену. Реальный факт был другим: Кюхельбекер купил флейту, которой очень дорожил, и ее украли. Он тяжело это переживал.
Подменив украденную флейту украденной шинелью, Гоголь был по-своему прав: шинель - нужная, полезная вещь, не то что флейта - в сущности, пустяк, колебатель воздушных струй.
И мир стал тягостно-гнетущим, серым, как шинель, как промозглое небо Питера.
ТЕАТР
"Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей", - пела фонограмма. На другом магнитофоне - тоже студийном - STM - крутился ролик с чириканьем соек и дроздов, отдаваясь в звукоусилительных колонках, искусно впрятанных в ротонду с высокой, возможно, семиметровой клеткой с канарейками и волнистыми попугаями, которые сами по себе пели неохотно, но свист записанных на пленку вольных собратьев подхватывали, и детишки, глазея на райскую клетку, радовались в антракте.
Так же точно включалась фонограмма с "Интернационалом" на партсобраниях - сами по себе партийные петь эту пакость стеснялись, не говоря уж о прочей публике, которую на "открытые" собрания загоняли силком, а с закрытых , напротив, изгоняли, даже если и некого было изгонять, по раз и навсегда наведенному ритуалу, очень похожему на "оглашеннии, изыдите" перед "Херувимской".
Фонограммы и стали моей новой работой, а устроил меня сюда, в театр синей птицы, ни кто иной, как Саша Беатов, порвавший с карьерой сторожа и навострившийся таскать тяжеленные микрофонные стойки на сцену и обратно. Голоса у оперных артистов были хилые, зал огромный - вот и понадобилась Наталье Сац наша свитерная братия, называвшаяся несколько обидно - службой слаботочного оборудования.
- Меня Гуднарским дразнят, - сообщил мне, знакомясь, начальник службы Юрий Петрович Гуднарский - морской подполковник в отставке - маленький, подтянутый, с подкупающее беззащитными глазами перелетной птицы, присевшей на чужой карниз.
Народ там был простой и без затей: Сергей Сергеевич - бывший главный инженер радиозавода, склонный к историософии телевизионный мастер Юлик - впоследствии один из лидеров русской праворадикальной партии в Израиле, аскетично поджарый Слава - фанат Высоцкого, владелец самой полной в Москве коллекции его записей, ныне ставший горячим поклонником моего друга - мужественного певца, о котором калужский режиссер очень тонко заметил, что он (лысый, здоровенный, с ручищами профессионального шофера) напоминает офицера разбитой Белой армии, подрабатывающего таперством в эмигрантском полуголодном Париже...
- С животом надо бороться, - наставляла Наталья Сац тучного тенора перед поездкой в Токио. - Японцы боятся больших и толстых людей.
Мне нравилось, что в театре есть вахтеры - никто внезапно не войдет. Чувствовал себя как в крепости: "И никогда меня вы не найдете..." - лег на дно.
Я бродил мимо тенистых аквариумов в фойе, где шевелили плавниками золотые рыбки, заглядывал в репетиционный зал.
- Разве можно вставлять хвост себе в задний проход? - выговаривала хозяйка театра студенту-практиканту из Алма-Аты. - Привяжите его к поясу.
Моей реальностью стали Баба-Яга, Колобок, нестрашные тигры, говорящие обезьяны и пьяные матросы на палубе пиратского корабля.
Были, конечно, и идейно выдержанные спектакли: "Винтовка и сердце" по Михаилу Светлову, в конце которого герой - комсомолец двадцатых годов - взрывал себя вместе с белогвардейцами "гремучей гранатой" (громыхали опять же мы - фонограммой из звукооператорской будки), и опера "Мастер Рокле" (на сюжет Карла Маркса) - о чертях, захвативших власть в неведомой стране...
Заверещал зуммер внутренней связи. Я надавил кнопку:
- Аппаратная!
- Третий звонок, - сообщил чуть искаженный переговорным устройством голос помрежа Светы. Плавным жестом вводится еще одна фонограмма - хрустальная призывная мелодия (записывали действительно звон бокалов, безукоризненно подобранных по тону).
Где-то глубоко внизу, в полутемном зале, подсвеченный потайными лампами, разыгрывался большой оркестр.
Но вот раздвинулся тяжелый, расшитый золотом и стеклярусом темно-синий занавес. Я осторожно ввёл бесчувственные дотоле микрофоны. На сцену вышла величественная, в синем бархатном платье с приколотой к нему золотой звездой Героя, Наталья Сац и стала рассказывать зрителям о том, что синяя птица - это символ октябрьской революции, принесшей детям счастье.
- Подводные лодки-малютки на гусеницах подкрадываются по мелководью, по дну к самому берегу, - повествовал между тем Сергей Сергеевич.- Перехватили переговоры с Москвой - кто-то матом ругался.
- Далась им эта Норвегия, фьорды... - удивился Саша сквозь наушники.
- Армии существуют для того, чтобы захватывать чужие территории. Для них это так же естественно, как для пьяного - приставать к женщине в ночной электричке.
КВАРТИРА
Ее население похоже на примитивное племя.
Когда-то тут жил один человек - профессор Барков, у него, на конспиративном заседании большевиков, бывал Ленин. Поэтому на наружной стене дома висит мемориальная доска и с экскурсиями заходят пионеры.
Здесь дети растут, как цветы на помойке, как грибы. Все жители давно перероднились между собой. Одного - Лёню - они пришибли незадолго до нашего приезда, а когда мы приехали, соседи справляли по нему сорок дней.
Лёня был, говорят, противный мужик, холостяк. Он приходил домой, закрывался в своей комнате и через пять минут выходил оттуда совершенно пьяным. Выйдя на кухню, он откровенно делился с соседями мыслями об их женах: что сегодня он трахнул бы вот эту бабу, а завтра - вон ту. Как-то Вася урезонил его матом, Лёня обиделся и стал гоняться за ним с ножом. Тогда Вася угостил его гаечным ключом. Лёня затих.
А через какое-то время соседи, как всегда, все вместе отмечали на кухне чей-то день рождения. Вдруг слышат: с черного хода какие-то странные звуки. Летчик Максимыч высунулся и видит: Лёня перепутал черный ход с туалетом и поливает нижние этажи. Максимыч говорит: "Лёня, мы кота ругаем, а ты..." На что Лёня назвал его паскудой. Максимыч схватил его за грудки и потребовал извинений, а когда Лёня отказался, стукнул головой об стенку. Опять спросил: "Извинишься?" Лёня опять наотрез отказался, и Максимыч снова стукнул его об стенку. На другой день Лёня заболел воспалением легких, а через четыре дня умер. Максимыч к лету получил его комнату, отремонтировал ее, поставил аквариум и сам поселился.
В день нашего приезда, вечером, а пожалуй, что и ночью, Вася ходил возле туалета, время от времени стучал в дверь и тоскливо звал: "Панков, а Панков! Ты что там, уснул, что ли? В туалете спать не полагается".
Туалет вообще был местом конфликтов, ввиду перенасыщенности жилья.
- Она говорит: "Целый день в туалет не попадешь", - рассказывал Вася про Люську. - А я ей говорю: "Ты встань с утра пораньше, просрись как следует - и все". Правильно, елки зеленые?
"Рыбой не пахнет?" - спросила Зина, протянув ко мне руку. "Нет", - понюхав, ответил я, несколько удивленный. "Ну вот, а они говорят, что от женщин всегда рыбой пахнет", - торжествующе повернулась она к мужчинам. "Да воняет", - добродушно отмахнулся Максимыч, разливая самогон. "Тухлой селедкой", - подтвердил Вася, беря стопку.
- У меня мать баптистка, - сказал как-то Вася мимоходом. И вот приехала мать - высокая, статная, сухопарая старуха, глядевшая спокойно и твердо, несколько отстранение, с высоко поднятой головой. Она напоминала птицу - журавля или страуса. Весь вид ее был несколько немецким, как и подобает баптистам. Запомнились морщинистые руки с крупными, рельефными жилами, тонкий шейный платок. Ходила она с непокрытой головой, никакого намека на крестик (в виде цепочки или тесьмы) не было. Разговоры вела исключительно благочестивые и всех звала на молитвенные собрания в Малый Вузовский переулок, в особенности художника Сашу Панкова.
Однажды ночью на кухне разгорелась экклезиологическая дискуссия. Зачинщиком ее был, надо полагать, Максимыч - умелый и опытный полемист. Я потому так говорю предположительно, что, когда я вошел с чайником, дискуссия была в самом разгаре. Максимыч и Вася сидели, откинувшись на табуретках, держа каждый недопитую стопку белесого, второй пробы, самогона. Васина мать-баптистка - величественная и грозная, склоняющаяся к закату дней, но необычайно живая, слегка простоватая, но с заметным отпечатком просвещенности и внутреннего глубокого пафоса на вдохновенном лице слегка германского вида - стояла, подбоченясь, у газовой плиты, спиной к ней, лицом к мужчинам. Зина и Неля застыли, одна на стуле у двери, другая, с дымящейся сигаретой, - в дверном проеме.
Кухня и раньше была местом жарких дебатов. Своих мнений никто не скрывал, даже если это были спорные мнения.
Так вот, однажды ночью на кухне разгорелась экклезиологическая дискуссия. Затеял ее пилот Максимыч, с задором спросивший, что же это за вера такая - баптистская: "Ведь наш русский царь-то был - православный? А вы, выходит, вере отцов изменили". "Картинкам молитесь", - отпарировала старуха. "Я был в православной вере крещен, - сказал Вася. - И ты, мать, тоже". "Мать-то разобралась, что к чему", - возразила она, не сдаваясь. "Разобрались, когда пое...", - подытожил Максимыч. Но Васину мать не так-то просто было сбить с толку. И она перешла в наступление - прошлась насчет пьянства. Зина и Неля внимательно следили за ходом дискуссии.
- Попили, пожрали, поспали, посрали, - бодро констатировал художник Саша Панков, проходя по коридору.
- Это точно, - одобрил Вася Жуйков.
Они напивались до потери сознания, и странно, как еще остались живы. (Вася упал и рассек себе бровь.)
Алиса рассказывала, что однажды вечером на кухне Люся сказала Зине нечто нескромное с намеком на Васю, возбудившее жгучую Зинину ревность, хотя кому он, такой замухрышка, нужен. Зина, недолго думая, кинула в нее горячим чайником. Вася встал между ними, и кипяток, предназначавшийся Люсе, вовремя присевшей, шмякнулся из перевернувшегося и ударившегося об стенку чайника ему на спину. Истолковав Васин порыв в пользу завизжавшей Люси (которой несколько горячих капель все-таки перепало), Зина кинулась схватить ее за горло, а коль скоро Вася стал на пути, вцепилась ногтями в его обваренные плечи. Вася завопил благим матом. Осознав весь ужас своей ошибки, Зина побежала звонить в "скорую помощь", но вместо того, чтобы объяснить толком, что и где произошло, твердила только, что Люська - б... Когда "скорая помощь", с трудом докопавшись до истины, приехала, глазам врачей предстала обнаженная Васина спина, покрытая волдырями, сам Вася, лежащий на животе и матерящийся уже обычным образом, без благости, а также Зина и Люся, хлопочущие около него с содовыми примочками. Врачи в свою очередь выматерились и уехали.
Русскому человеку необходимо кого-нибудь ругать - для самоуважения.
Максимыч положительно, хотя и не без иронии, относился к войне Ирана с Ираком:
- Чурки чурок бьют.
- За колбасой очередь, как в мавзолей, - сообщила Ира.
Все были уверены, что когда умирает известный актер, игравший Ленина, его кладут в мавзолей взамен предыдущего лауреата. А вместо Брежнева - артист Матвеев.
Мне приснилось, как один сосед рассказывал другому:
- Помню, было дело на фронте. Зашли мы на хутор, выпили там самогонки. Усталые были, голодные. И так я тогда блеванул!
Другой закурил и ответил:
- Понятное дело - война.
ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Неспособные целенаправленно мыслить, с путаными, смутными ощущениями - не в мозгу, а где-то в области предсердия, печени, почек, - вожди народа с трудом прочитывали по складам неизвестно кем написанные для них и оттиснутые печатными буквами речи.
Я все думал - куда подевалась "черная сотня"? А она вся перекрасилась в красный цвет.
"Ты не понимаешь? Ты не понимаешь?" - вопрошали они давящим полушепотом. А это значило - правила блатного мира, воцарившегося в стране. "Ты не понимаешь?" Нет, не понимаю.
Эпоха погромов. Громили евреев, потом дворян, потом Церковь. А цель была одна - грабеж.
Большевики, с самого начала их правления, напоминали беспризорников, забравшихся на чужую дачу.
"Культ"... Словечко это, введенное в оборот Хрущевым, пришлось по душе всем. Неблагозвучное, вызывающее ассоциацию с культей - то есть остатком руки или ноги инвалида, оно позволяло не употреблять всуе такие слова, как социализм, коммунизм, революция, большевизм, оставив на них ореол казенной святости, - и вместе с тем критиковать, в качестве "извращений", то, что составляло суть строя, самое главное в нем - массовую резню.
Они разрушали цивилизацию, которую не создавали.
Как ни странно, маленькая Кампучия дала наглядный урок гигантской России, пытавшейся, закрыв глаза, бежать от кровавого прошлого, как по льду, - бежать на месте, а если и скользить, то к полынье, увлекая за собой весь мир.
Мир, что-то поняв, отшатнулся - кроме тех, в кого большевики вцепились мертвой хваткой, в тоске по своим - заложникам и рабам, - обрекая на страшный союз.
И, понимая всю временность своего царствования, они закатывали пиры, перед которыми меркла даже тренированная фантазия Пикуля.
...Представьте себе, что вам говорят: "Сейчас вам преподнесут роскошный обед: икра, коньяк, жареные цыплята, фрукты. Но прежде, чем все это вкушать, вы должны съесть чайную ложечку дерьма". И это повторяется каждый день. Одни съедают, другие нет. Примерно так определяется партийность. Примерно таковы антикупюры в прозе певца "сердитых молодых людей" - кучи вместо дыр. Наговорит, закавычит, припишет врагу - и вещь становится "проходной".
КОЛЫБЕЛЬНАЯ В ЦАРСТВЕ ПТИЦ
- Если тебе комсомолец имя, - изрек, вернувшись в аппаратную, Сергей Сергеевич, - то у тебя должно быть молоко и вымя.
Я не ответил, приникнув к микшерскому пульту, чтоб не засвистели микрофоны в синеющем тьмой океанских глубин притихшем зале.
- Но это было давно, - рассказывала детям Наталья Сац, - еще когда был царь. А потом синяя птица, а точнее - октябрьская революция принесла нам счастье.
Что вспомнилось ей тогда? Двадцатый год, шумное кафе поэтов, где она сиживала среди муз и граций Луначарского? Или дымный, матерящийся, простуженный барак опутанного колючей проволокой лагеря, затерявшегося в казахских степях?
Трудно сказать.
ДОКТОР ДЖАЗ
Если что и создано прекрасного в двадцатом веке - так это джаз. Невидимая крепость, воздушный замок.
Он возник из народных глубин, ободряющий и утешающий, звонкий смех черных рабов, которые, по выражению одного американского музыковеда, "поют не от счастья, а для того, чтобы сделать себя чуточку счастливее.
И в самом деле - первые джазовые музыканты-негры воздвигли из звуков невидимый град, остров любви и добра, противостоящий океану зла окружающей жизни. Самые униженные и забитые на свете люди спасали себя от уныния и горя - и в их душах рождалась исцеляющая музыка надежды - самая радостная на свете.
Их деды хранили память о солнце далекой Африки и о пиратских кораблях, в недрах которых их увозили с родной земли, о невольничьих рынках и бичах надсмотрщиков: "Как петь нам песнь в земле чужой?",
Они не знали нот, их музыка была импровизацией, обаятельной и экспрессивной, пронизанной стремительным ритмом и упоительно-острыми гармониями. Она была непосредственной и первозданной, поразившей изможденную мировой войной Европу искренностью и простодушным гуманизмом. В ней было все, кроме растерянности и трагизма, в ней была цельность и неизменность оптимистического взгляда на мир, состояние которого есть всегда проекция твоей собственной души. Она была праздником бедняков, дружеской пирушкой подгулявших работяг, яркой карнавальной мистерией, парадоксально-ироническим гимном миру. Ее очаровательные, царственно-небрежные, дразняще-свежие созвучия опрокинули и лишили интереса самые изощренные конструкции европейских модернистов; ее натуральный, в меру подчеркнутый демократизм попирал снобистскую изысканность эстетов, утверждая с истинно американским напором, помноженным на темперамент внуков Африки, выпестованное двадцатым веком достоинство простолюдинов.
Максим Горький называл ее "музыкой толстых". При звуках джаза в воображении Пешкова почему-то неукоснительно вставал пугающий пролетарского писателя образ здоровенного и наглого детины, грозно размахивающего огромным фаллосом.
Первая джазовая пластинка была записана в Америке 15 марта 1917 года - в тот самый день, когда русский царь Николай II отрекся от престола.
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
В газете "Труд" появилась статья: что пора возродить такие народные формы музыкального творчества, как марш.
Стало известно об отмене торжественного концерта в честь Дня милиции, и поначалу джазмены решили, что выплыли на свет крупные взятки или милицейский заговор против страны.
Наутро выяснилось, что умер Брежнев.
Стояла мощная охрана, но смерть оказалась сильнее.
Звучали печальные марши.
Со стен домов до самых тротуаров свисали красно-черные, как исслезненные глаза, державно-траурные флаги.
К Колонному залу тянулись фетровые шляпы и драповые волосатые пальто.
Во всех православных храмах по распоряжению властей отпевали раба Божьего Леонида.
Его смерти боялись все, потому что ожидали только худшего.
Музыканты вспоминали знаменитый лозунг пятидесятых годов: "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". И красочный агитплакат "От саксофона до ножа - один шаг" с соответствующим рисунком. Говорили, что предполагалось даже демонтировать линию на ленинградском заводе музыкальных инструментов, где производились отечественные саксофоны, но потом оставили эту затею (и, кстати, зря, потому что извлечь из этих самоваров музыку не удавалось пока что никому).
Все это, понятно, было в духе времени (и пространства, конечно, - вспомним ныне дикий призыв в американских кабаках начала века: "Не стреляйте в пианиста - он играет, как может") - но утешало мало.
СТЕКЛЯННЫЙ РОЯЛЬ
При захоронении Брежнева раздался непонятный гулкий звук - как будто от удара. Оказалось - солдаты почётного караула выронили тяжёлый саркофаг, и он грохнулся об катафалк, издав усиленный динамиками тот самый стук - знак извечной советской халтуры.
- Интересно, что сейчас Андропов делает?
- Стишки садистские пишет. Что же ему еще делать?
Выступил по телевидению новый верховный полуначальник с неразборчивой внешностью и типовой фамилией парткомовского выдвиженца. Прежние вожди всё же носили на себе оттенок таинственности или величия, или сказочной придурковатости. А это был типичный руководитель среднего советского учреждения, только что не в нарукавниках. И вся страна стала восприниматься как одна большая и скучная контора, которых тысячи в ней самой.
Окаменевшая гримаса поэта-трибуна всплыла в моей памяти, когда певец с наглым индюшьим глазом и свиным подбородком, чуть только не подмигивая, загорланил на всю страну его песню "Ты только прикажи..."
Мелькали на смутном экране космонавты с мордами убийц и убийцы с улыбками космонавтов. Генерал с лицом порочного ребенка.
А мне вспомнился стеклянный рояль, увиденный когда-то в клубе текстильной фабрики "Вымпел". Стеклянный рояль "Беккер" на стальных ажурных ножках. Сквозь прозрачные призрачные его бока, как бы пронзенные рентгеновскими лучами, пульсировали мягкие изящные молоточки, ударяя по медным струнам... Он был как странное доисторическое насекомое.
Я всё думал: как он попал в фабричный клуб? У кого-то его, конечно, отняли. Кого-то при этом, возможно, подстрелили...
Еще более интересный факт мне рассказал Юлиан Антонович Грамши. Владелец фортепьянных фабрик господин Стейнвей с наступлением нацизма переехал из Германии в США и там развернул свое дело. Когда началась война, он платил американским летчикам хорошие деньги за дополнительные бомбовые удары по отмеченным им на карте точкам - заводам его конкурентов: Беккера, Шрёдера, Бехштейна, Циммермана. К весне 1945 года германская фортепьянная промышленность была полностью утрачена - не осталось даже чертежей. (Правда, долго еще у нас в России славилось пианино "Красный Октябрь" - пока не кончились вывезенные из побеждённой Германии рамы, деки и механизмы клавиатур.)
УСКОРЕНИЕ
Посреди дневного киносеанса в зале вспыхивал свет и какие-то парни в штатском проверяли у публики документы - ловили злостных прогульщиков.
На улицах милицейские патрули досматривали сумки и портфели прохожих: шла борьба с несунами - расхитителями социалистической собственности.
Билет в автобусе взял - ещё арестуют, по нынешним временам.
Прочёл название остановки: улица Исаковского. (Сподобился, сукин сын.)
Мешкова говорила, что ей хочется стрелять во всех из автомата.
Такое же точно настроение было у Маринки Дергачевой в её новой квартире в кооперативе "Лебедь". Подав мне чай, она сказала:
- Можешь помешать половым членом.
На это трудно было ответить.
СОЛОМИНКА
Время от времени появлялась баба-милиционерша. Она выгоняла спекулянток из сортира.
Во всех мужских сортирах дежурили гомосексуалисты, ища своего.
"Держи меня, соломинка, держи", - эта страшная песенка Пугачевой отвечала потребностям души и Гены Маврина, и девчонки, вошедшей в вагон метро с двумя пластинками "Как тревожен этот путь".
Женщина шла и в темноте сбила железный барьер ограждения возле "Националя" - со страшным грохотом и звоном. Кучерявый откормленный дебил шёл и весело, нескончаемо хохотал над этим.
РУБЕЖ
Ужасно отчаянье, порожденное бессмысленностью жизни.
Мне не хочется умирать, пожалуй, по инерции текущего бытия, вялотекущего бытия, где быта нет, но нет и событий, а есть печальная несбытость начал.
Я вступил в первый год моей счастливой старости, вторую половину жизни, стараясь не делать ошибок и не совершать грехов, заниматься творчеством и благодарить Бога за Его великодушие и щедрость, помощь и заступление свыше. Младенчество моей начинающейся старости, поры плодов, срединный рубеж жизни - 35 лет, смерть отца, венчающая детство.
Все - в сердце. Здесь главное.
Без Бога мы все безотцовщина, душа ощущает свое сиротство.
Не думал я, обладавший неуклонным и неискоренимым оптимизмом во всех обстоятельствах жизни, что мной овладеет безысходность.
Всюду, во всех лицах и глазах вижу я следы вырождения. Молодые дебилы - жертвы алкогольного зачатия. В глаза и нервы старших вошел страх их отцов, разрывающий сердца, разлагающий тела саркомой.
IN THE MOOD
Когда мне плохо, мне не хочется есть, а хочется курить. Говорят, что так умер Зощенко: закрылся в пустой комнате, ничего не ел и курил, пока не умер. Это было после газетной травли.
В семидесятых годах вышла "Повесть о разуме", где перед нами предстал новый, неожиданный Зощенко, обнажилась его нежная, нервная, утончённая душа, которую он умело прятал за масками обывательских монологов.
Блок умер от скуки при социализме. Ему не надо было служить в учреждении, а он начал делать это еще до Октября - в комиссии по расследованию деяний царской охранки. Канцелярщина съела его, он не мог писать стихи. Что такое совучреждение для поэта - показала Цветаева в прозе "Мои службы". Мне жалко и Маяковского, который истёр себя до рукоятки о точильный камень коммунизма. Мандельштам погиб, когда вступил в тяжбу с Союзом писателей, - погиб задолго до своей физической гибели. Нельзя ходить на совет нечестивых и садиться на одну скамью с губителями. Когда к человеку невозможно придраться, его уничтожают просто так, на всякий случай.
Надо держаться, не поддаваться унынию текущей жизни, не слушать, не читать, не отвечать, попытаться, несмотря ни на что, делать свое дело, держа, сохраняя баланс, пока мир не перевернулся.
И то, что эта женщина, поскользнувшись, упала, вымазав пальто то ли солью, то ли песком, и дворник, подметавший тут же тротуар вместо того, чтобы чистить его, - были явлениями одной причины.
ПРОГНОЗ
Я решил спросил отца Александра Меня о том, что будет. (Мы выбрались из такси в каких-то запутанных и темных черёмушкинских дворах-переулках.)
- Леонид Ильич был хорош своей косностью, - похвалил батюшка отошедшего в лучший мир вождя, - он спрятал под сукно немало горячих проектов.
- Но от шефа КГБ, который так ловко вскарабкался на трон, вряд ли можно ждать чего-нибудь хорошего.
- Он, правда, поинтеллигентнее остальных - играет в теннис, знает английский язык. К тому же Брежнев реальной власти не имел, а Андропов имеет. Но здоровье Юрия Владимировича даёт основания полагать, что это всё - ненадолго...
ЛУНА-ПАРК
Два интеллигента у винного Профсоюзной дрались портфелями.
Люди ехали в метро и спали, и кивали головами в знак согласия.
1268 - дата на руке восточной женщины означала ее место в очереди - скорее всего, за коврами.
Империализм тяготеет к захвату мира как своему идеалу, провинциализм - к семье.
Есть в империализме что-то подкупающе мужское - задорный наступательный порыв, вечнозелёный шарм наивной наглости.
Русские несли бремя белых от Каспия до Аляски.
Империализм преодолевается космизмом.
Нью-Йорк - столица мира. Москва провинциальна. Понятие массовой культуры - не более чем знак желания интеллектуалов играть в очаровательные американские игры, пуститься в их духовный луна-парк.
Россия - безумие, миф, царство злых и лукавых бесов.
Где утешение в скорбях?
Как говорил Шопенгауэр, всюду в мире и видел одно и то же - борьбу за власть.
На стене красовалось коротенькое слово: "Ух!" - новое русское ругательство из двух букв.
У забора отливали пьяные дружинники. И странно было, что станция называется - "Маяковская".
ГАРАЖ
Напротив помещалась военная академия имени Фрунзе - в бывшем женском монастыре.
(Фрунзе воздали все почести, какие только возможно. А слушок о том, что смерть его не была случайной и что кто-то усатый ему помог, все-таки пополз...)
Ночью во дворе академии трещал мотор. Это было похоже на "Гараж" Катаева - тем более что гараж торчал алюминиевыми рёбрами перед нашим окном. Мы так и думали, что там расстреливают, а чтобы не было слышно криков и выстрелов, заводят мотор грузовика.
Потом я увидел, как чуть подальше, в свете фонарей, прошли солдаты с деревянными лопатами и за ними проехал, издавая тот самый треск, снегоочистительный комбайн.
Я успокоился и уснул.
Мне привиделся сон из трех частей.
Сначала мы стояли на лестнице, ведущей от нового цирка к Детскому музыкальному театру. Шел какой-то митинг. Оратор - кажется, директор, - говорил что-то о качестве нашей продукции - спектаклей, видимо. Тут же рядом терся Федя Черненко - бывший новоиспеченный главный инженер, требовал внимания. Потом актер Толя Петренко, встав в позу вожака волчьей стаи Акелы, стал выкликать поименно депутатов какого-то совета, а их, как на грех, никого не оказалось. Тогда он закричал, что теперь - отныне - все члены совета должны ежедневно в шесть часов вечера собираться на этом месте, а все стали ехидно хихикать - ведь как глупо быть депутатом и из-за этого куда-то тащиться после рабочего дня.
Потом все повалили в театр. Повалил и я и попал в некую репетиционную комнату, где бритоголовый грубиян на фоне японского пейзажа бил руками и ногами по голове убегающего и вновь появляющегося партнёра. Когда я вошёл, бритоголовый ударил жертву кувшином по спине. Кувшин разбился.
Я прошёл через эту комнату и вышел в коридор. Там меня встретил Сергей Сергеевич, задавший обычный для него вопрос:
- А что, Володя, вы такой большой любитель профсоюзных собраний?
Проснулся в тоске, с мыслью об Окуджаве ("Моцарт на старенькой скрипке играет"). Во сне спросил у Бороздина: "Серёжа, у тебя есть закурить?" Взял сигарету.
Город был похож на Петропавловск-Камчатский и Севастополь - всхолмлённый, с крутым поворотом дороги, домами начала прошлого века, у большой воды.
И опять проснулся в тоске. Это мать, наверное, меня звала, посылая в ночь свою тоску.
ОН УШЁЛ
На портрете лицо отца было слегка подретушировано - подведены губы, глаза чуть очерчены, волосы притемнены. Выражение стало немного лживым и сладко-насмешливым, непосюсторонним, умиротворенным и сглаженным, словно с неким новым знанием. И все же это был мой отец - его черты, зримые и незримые, проступали, проглядывали через ретушь, сквозь этот несколько вылженный, присиропленный облик - мой отец, суровый и прямой, деликатный и сдержанный, очень искренний и много думающий человек с ясной речью, трезвым и отчетливым взглядом на вещи и людей. И мне стало ясно, что через темную сладость икон можно узреть, прозреть, провидеть, сквозь толщу веков и многослойность записей, прописей, пониманий и интерпретаций, узнать истинный облик, лик Христа, познать, признать неуловимый, не ясный нам пока, с первого взгляда, проникновенный и потаенный, затаенный в глуби и тайне образ - четкий и резкий, мирный и властный, ласково-струящийся и безошибочно дерзкий, влекущий, не знающий страха, неустанно внимательный, умный, живой.
Гремел военный оркестр.
Гроб с телом моего отца вынесли из подъезда на морозный двор.
Он лежал, отмучившись, спокойно, не глядя на товарищей, снявших ондатровые шапки.
Красно-чёрный гроб на белом снегу, траур труб.
И я подумал: "Вот - коммунисты хоронят своего".
ШИРОКА МОЯ РОДНАЯ...
"Нет для нас ни чёрных, ни цветных". Они даже сами не понимали, что в этом и заключался скрытый, а может быть, и явный расизм - в рассуждении:
- Это ничего, что вы чёрные, мы и не посмотрим на этот ваш недостаток, вы для нас - всё равно что белые, нормальные люди.
ПРОЛЕТАРСКИЙ ГИМН
"Кипит наш разум возмущённый". (Это надо же было додуматься!)
ОБМЕН
"Снегопад, снегопад, если женщина просит..."
- Меня - женщину с такой внешностью, - возмущённо рассказывала Стелла, - повалить на кровать! Да ещё этот самогон и колбаса...
- Что делать, - посочувствовал я. - Аристократы перевелись.
МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
Мне приснился Сталин - старый, измождённый, больной, с костлявым, исхудавшим лицом, как у больного раком, небритый, с обвисшими усами, поредевшей седой шевелюрой, каким в жизни он никогда не был, в бязевой нижней рубашке, он сидел за столом, уставленным пустыми бутылками из-под коньяка, заваленным обглоданными костями, веточками от виноградных гроздьев, арбузными корками, подперев голову костлявой рукой, и грустно, печально, тоскливо смотрел перед собой потухшим взглядом. Он был похож на ракового больного - одинокий, несчастный старик-кавказец.
Ещё мне приснился лиман - степь и берег моря где-нибудь на Херсонщине или близ Одессы. Там стоял дом о трех стенах, фанерный или картонный, с дверным проемом, сквозь который виднелось окно без стекол, а за окном, в рамном переплете, - море и степь. Двери не было, а в проеме, прямо на траве, стоял Будённый - загорелый, в белой майке, со скрещёнными на груди мускулистыми руками, в галифе, босой, с торчащими тесёмками кальсон, с усами, небритый, склонив стриженную ёжиком голову на грудь, он задумчиво говорил:
- Да, теперь-то я все понимаю...
Сон о путешествии в Венгрию. Мы шли по Будапешту. Характерные надписи на мадьярском языке, им соответствующие на русском. В гостиничном ресторане - русская свадьба. Вышел официант в расшитой рубахе с пояском, в плисовых шароварах и сапогах гармошкой. Магазин с продукцией завода "ВЭФ" - приемники, магнитофоны (вывеска: "Колониальные товары"). Две студентки. Комната. Ранний вечер. На улице - шум машин и мотоциклов, фигуры военных. "Рашена поехали..." Потом вошла Хозяйка квартиры - Потапова в цветастом халате, ее полупьяные родственники. В кухонном окне мерцала световая реклама: "Летайте самолетами Аэрофлота".
И - сон про репрессированных: гостиница, лужи (музыкальное училище), колодец, кольцевые коридоры, площадка - площадь райцентра, нереальные вывески: "Пчеловод...", "Семеновод...". Пустые витрины. Нигде нет продуктов питания. Ниже этажом - зал с пальмами, буфетная стойка. Кафе, длинные столы, накрытые белыми крахмальными скатертями и целлофаном. Пир победителей. Бешбармак, курица в тесте, зелень. Блюдо с ложкой. Водка, все пьют. Федя Черненко подкладывает: "Давай, старик, навались". Морские офицеры, адмиралы. Старая еврейка поднимает тост за своего лучшего друга - сына, который тридцать лет просидел в лагерях.
Старая движущаяся фотография: она молодая, в кубанке, в шинели, в муфте, с саблей; он в пенсне, улыбаясь, оба с решительными счастливыми лицами.
Старый комсомолец с цветочками. Маленький (усохший), в белом картузе. Лицо, искажённое тиком, зелёный бидончик в сетке - пустой, без крышки. Синий вытертый костюм (китель?). Черномазая девчонка в плаще - словно из тех лет. Родное его село Черняново.
Падает медленный тёплый снег. Застывшие на фотографии фигуры.
И всё это - не для них - еврейских, интеллигентских лиц в пенсне - допросы, стужа колымских лагерей. Выжить там было непросто - там тоже надо было сделать карьеру, выслужиться, понравиться кому-то...
По-прежнему влекло к себе мужчин и женщин. От этого рождались дети.
Пожилой мужчина кормил лошадь виноградом. Это был маршал Будённый.
И звучало танго - старомодное, наивно-сентиментальное, насквозь буржуазное, но так отвечавшее духу времени, темному духу революции:
Мой милый друг,
Мой верный друг сердечный,
Твой образ вдруг
Затеплится в окне...
Не забывай
О юности беспечной.
Прощай, прощай -
И помни обо мне.
Не потеряй
Себя, мой друг безгрешный.
Наш отчий край
Во гневе и в огне.
Не пожелай
Печали безутешной,
Не умирай -
Подумай обо мне.
Ах, если б нам
Исполнить все с начала:
Роскошный май,
Беседы при луне...
Назло врагам
Чтоб снова прозвучало:
Прощай, прощай -
И помни обо мне.
(Сладостно, как мысль о самоубийстве.)
Часть шестая
ЗАБЫТЬ РОССИЮ
ДЕРЖАВА
Россия похожа на яйцо с желтком-Москвой. Яйцо образуется вращением, и его идеальная форма - шар. Но притяжение ядра и инерция центробежных сил вытягивает шар, придавая ему овальный, эллиптический контур. Россия похожа на яйцо, поваленное набок, где слева - густозаселенная европейская часть с ядром-Москвой, а справа - сплошной, вытягивающийся белок, остроконечно завершающийся на востоке, с твердой скорлупой, а внутри - жидкое.
ИНЦИДЕНТ
В одном селе была служба на Прощёное воскресенье. Вышел настоятель, как полагается, Каяться. Попросил у всех прощения за обиды, если кому за минувший год причинил.
Вышел и второй священник, тоже каяться стал. И особо - перед настоятелем. В том числе и в таких своих провинностях перед ним, о которых тот и не догадывался.
Удивился настоятель, но слушает дальше. Наконец не утерпел и говорит:
- Ты, отец (имя рек), вот еще в чем передо мной виноват...
- Да ведь и вы, отец настоятель, мне каверзу подстроили...
И стали они, вместо своих грехов, вспоминать обиды и друг дружку обвинять. Пока не схватил отец настоятель второго священника за гриву, а тот его - за бороду. Дьякон с алтарником кинулись разнимать - да куда там - и им досталось.
А прихожане этого храма, как это обычно бывает, делились на две половины: духовные чада одного священника и другого. И бросилась паства защищать каждая сторона своего батюшку, и вышла свалка - стенка на стенку. Зуботычины пошли, затрещины, пинки...
Певчие за аналой попрятались, а староста под ногами дерущихся прополз, выбрался из храма и милицию вызвал.
ОРКЕСТР
- Духовики же все смурные, - говорил Андрей Соловьёв. - Вместо того, чтобы заниматься, они постоянно что-то подпиливают, подтачивают - усовершенствуют инструмент.
- Предсказать можно все, кроме биг-бэнда, - убежденно сказал директор студии джаза.
Ансамбль играл, рабочие в зале кричали:
- Экстаз, б...!
Так они выражали свои чувства.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
В антракте наш маэстро - лауреат всемирных фестивалей - рассказал про свою первую любовь.
Жили они с матерью бедно, отец умер, пенсия была мизерной, стипендия в училище - восемнадцать рублей. И вот однажды мать решительно сказала:
- Сынок, ты теперь уже взрослый и должен сам всё понимать: жить нам не на что. Пойди и познакомься с девушкой - из рыбного отдела, а ещё лучше - из мясного.
Он, не откладывая дела в долгий ящик, тем же вечером отправился в ближайший "Гастроном". Начал с мясного отдела. Но хозяйка его обладала столь мощными габаритами, что закадрить ее музыкант не решился ("вмажет - от стенки ложкой не отскребёшь"). Он двинулся к рыбному и там довольно успешно договорился с продавщицей о свидании.
- Как мы с мамой стали с тех пор питаться! Мы ели красную икру, чёрную, балык осетрины, крабов... Да и чувиха была - ничего...
Джазмен задумался, припоминая, а потом воскликнул:
- Но запах... Запах! Его не могли отбить никакое мыло, никакие духи!
ВЕЛИКИЙ ПОЧИН
- Как говорил великий Диззи Гиллеспи, если хочешь играть джаз, научись топать, - поучал нас хозяин биг-бэнда. И добавлял: - Молодость нам дана для того, чтобы хорошо играть в старости.
Он почему-то особенно выделял меня:
- Да, Володя, ты - великий баритонист...
Сам он славился в среде джазменов, которые говорили:
- Басист нормально играет. Их Мельников знаешь как выдрачивает!
В студии джаза объявили о субботнике.
- Он, сука, один раз бревно поднес, - запричитал наш дирижёр, - а нам теперь к восьми-тридцати являться!
ХАМОВНИКИ
Молебен кончился, все стали подходить к руке священника. Подошел и хор. Вдруг в тишине раздался оглушительный чмокающий звук - альтиха Галя приложилась основательно - взасос. Старенький священник взглянул на свою руку и, не удержавшись, по-детски громко рассмеялся: на тыльной стороне его ладони отчетливо пропечатались напомаженные губы благочестивой певицы.
- Как настоятель с тобой обошелся, - сказал, прикуривая во дворе, регент Женя. - Я его даже мысленно послал...
А я так понял, что послать мысленно - это всё равно, что наделать в штаны.
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ
В церкви говорили, что землетрясение в Армении - это наказание Божие.
- А нам за что советская власть досталась? Все живут как люди, а мы - как свиньи.
Лето - хорошее время для начала войны, осень - для массовых репрессий.
Уже стрижка наголо ввергала бедного призывника в состояние шока. Он не узнавал себя в зеркале. Какой-то жалкий, исхудавший, уродливо-инфантильный вид. Как зек. Да ещё телогрейка и сапоги (в армию надевали что поплоше - всё равно потом выкидывать - "там всё дадут"; возвращались домой в военном, часто - краденом). Называли их презрительно-жалостливо "допризывниками". И они были в принципе готовы к нравам тюремной камеры, блатной шайки, в которую постепенно превращалась наша армия.
Русские гордились своей удалью, и это отразилось в анекдотах, мате-выручалочке и бесшабашном пьянстве. А потом поднялся такой фантастический мат и такое фантастическое пьянство, что стало уже не смешно. И картина, нарисованная Матерщинником в Матерном Его Слове, уже могла быть хоть и мрачноватой, но реальной, обрекая слушателя на статус раба - сына наложницы.
Время от времени в автомобильных катастрофах гибли партийные руководители Белоруссии.
Слово "советский" звучало постыдно - как "позорный" или "дурацкий" - за исключением, может быть, среды спортсменов. Наивные энтузиасты системы вызывали подозрение в грядущей нелояльности, ибо вся система была выстроена на лжи, а значит, наивных сторонников иметь не должна была. Посвящённые же говорили о ней с особой, им одним понятной блатной интонацией - смеси цинизма с фальшью и иронией.
Верой и правдой служить коммунизму могли или глупые, или бессовестные - такой вот шёл отбор.
Хиппи попали в ситуацию экзистенциально безысходную: они родились - и оказались внутри Совка.
Возле здания КГБ на Лубянке стоял в задумчивости длинноволосый небритый человек в распахнутой шинели - полубезумный художник, приехавший из Алма-Аты. К нему подошел милиционер:
- Что вы здесь делаете в центре?
- В центре чего? - удивился художник.
Его мать написала министру обороны: "Я отдала вам сына здорового, а получила калеку".
(Он ударился головой о штык.)
"В центре чего?"
Но никому еще не пришло в голову спросить: "За границей - чего?" Понятно, чего.
- Что вы можете сказать о фуге в связи с русским народом? - спросил у Ленки Цедерблом профессор консерватории. Лена терялась в догадках:
- Что она такая же великая? Щедрая? Добрая? Широкая? Могучая? Певучая?..
- Нет, все не то. Первая среди равных.
Этого даже изощренный еврейский ум не мог себе вообразить. И поставили ей по специальности четверку.
Лена с отличием закончила консерваторию и студию джаза и стала работать аккомпаниатором в детском саду.
Конечно, в компании джазменов это звучало странно. Но мне приснилось, что именно в компании киряющих джазменов и кадрящихся девиц я произнес следующий наставительный монолог: "У человека должна быть только одна жена. Если твоя жена умерла, женись на вдове или девице. Если жена твоя жива и ты не можешь с ней жить - разведись и уйди в монастырь".
- Опять певицы звонили, - сообщил Вернер.
- Что ж, отодрать мы их сможем, - согласился Мозырев, одним ухом прислушиваясь к тому, как неуверенно, словно боясь оступиться, пробует ноту тромбон.
От студии джаза к центру под проливным дождем тянулась унылая толпа москвичей, сопровождаемая густой цепью милиции. Они несли обвисшие от сырости плакаты со смутными угрозами в адрес президента Рейгана - кажется, собирались брать американское посольство. Набирали их в каждом районе, от всех предприятий по нескольку человек - как на овощную базу, или как отбирают-заложников - и вот они, в свой выходной субботний день, понуро брели по осенней мостовой отстаивать дело мира.
Привыкли понемногу лгать, подворовывать.
- Антисемитизма в Советском Союзе нет, - утверждал маленький, шустрый Яков Аронович Шмулевич, преподававший нам "марлей и тырпыр", то есть марксистско-ленинское учение о журналистике и теорию и практику партийно-советской печати, - потому что я его не чувствую.
- Надо, чтобы он, сука, чувствовал! - сказал, узнав об этом, Толя Каркуша.
Его досада напомнила мне кусок сливочного масла, который держал, не зная, в кого кинуть, потому что все вокруг были такими, что и по морде могли дать, пацан в пионерском лагере, приговаривая:
- Такой кусок масла пропадает
В армии, напротив, масло ценилось на вес золота, и студент-солдат Шуйский, изучавший китайский язык, вернувшись из военных лагерей домой, намазал ломоть хлеба маслом и торжественно выбросил его в мусоропровод.
В другой компании - преимущественно художников и киноактеров, куда затесался один повар, - собирались ежегодно 23 февраля, в день Советской армии, обряжались в армейские обноски (повар приходил во флотском), ели картошку, сваренную в мундирах, пили водку, курили махру, заворачивая ее в газетные самокрутки, и ругались матом.
- Наше дело - убивать, - сказал полковник авиации. (Только что сбили корейский авиалайнер.)
А Наталья Сац говорила, что из-за этого шулера Рейгана с его крылатыми ракетами она не успевает даже сходить по маленькому делу, а когда всё-таки сходит, то думает: "Боже, какое наслаждение!"
Наша армия дрочила пушки, пристреливала автоматы. А войны всё нет и нет.
Они перетрахали друг друга. А войны всё нет.
Ракеты содрогались от эрекции, готовые вонзиться в цель. А войны всё нет - один онанизм, именуемый военно-патриотическим воспитанием.
Как виртуозно матерятся офицеры! Секс проступает на полотнищах знамён - пунцовых, с золотистыми махрами.
Но ширинки застегнуты и пушки зачехлены. До той вожделенной минуты, когда щекастый маршал, сняв трубку алого полевого телефона, крикнет долгожданное: "Лось!" - что означает: "Началось!" И...
В конце концов Рейгану всё это надоело, и он сказал своим ученым:
- Вот что, ребята, придумайте-ка что-нибудь, чтоб это ядерное оружие вообще не имело значения.
И они придумали "звёздные войны".
Тягаться с ними "старый крот" уже не мог. Стало ясно: нужна перестройка.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Мой тесть Борис Давидович встретил на улице Алма-Аты своего друга Натана и сообщил ему новость: что у него утром брился районный прокурор Джубаев и просил дать Натану характеристику.
- И что же ты ему сказал?
- Я сказал: "С него можно брать".
ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ
Сержант Вооруженных сил Святослав Николаевич Пономарёв вернулся домой из Афганистана. За обедом он выпил водки и закурил за столом. А когда его мать - Нина Акимовна - сделала ему замечание, он повалил ее на диван, сдернул трусы и изнасиловал.
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ВОЙНА
Саша Беатов сочинил стихотворение:
Дедушка в поле гранату нашёл,
Дедушка тихо к райкому пришёл.
Дедушка кинул гранату в окно...
Дедушка старый - ему всё равно,
- которое быстренько разнеслось по советской стране.
Феликс Чуев решил обезвредить эту вражескую вылазку и написал в ответ своё:
Дедушка в поле нашёл ананас.
Принял за фрукт он фашистский фугас.
Долго искало в потемках село -
Жопа осталась одна от него, -
породив беспрецедентную массу подражателей.
Поэт, правда, слегка поднапутал: ананас - не фрукт, но это в данном случае не важно. Контрреволюционный дедушка был забыт.
СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ
Ленин, как спящая красавица, лежал в стеклянном гробу. Лицо излучало таинственный свет...
Интересная была семья Ульяновых - все дети стали революционерами. Значит, были такие разговоры дома, значит, так их воспитывали.
Мать - Мария Александровна Бланк...
Александр Ульянов выпилил лобзиком хлебницу, на дне которой лобзиком же было выпилено немецкое слово "Brot" - "хлеб". В доме говорили по-немецки.
Илья Николаевич Ульянов - что-то мягкое, липкое, скользящее. Он был грузный, одутловатый, выбился в люди из простых и очень стеснялся высокообразованной жены. Она и воспитала детей - в те годы воспитанием занимались матери. Сыновьям дали уже имена потвёрже - Александр, Владимир, Дмитрий. Только фамилия оставалась улиточьей.
Почему он назвал себя: Ленин? В честь какой-нибудь курсистки? Говорят, в честь реки Лены. Но почему не Енисеев? Или - Волгин? Хотя нет - тогда невозможен был бы отец Владимир Волгин - священник, как две капли воды похожий на Ленина (был он рыжий, голубоглазый). Ещё говорят - из-за Ленского расстрела (рабочих золотого прииска). Но тогда он мог бы назвать себя (и даже с большим основанием) - Кровавиным - в честь Кровавого воскресенья. А так получается: Сталин - от стали, Ленин - от лени?
(Не знаю, много ли бы нашлось охотников бежать в атаку под крик: "За Родину, за Джугашвили!" Вообще-то фамилия Сталина была - Джугаев; отсюда мандельштамовское: "и широкая грудь осетина". Некоторые поговаривают, что отцом Coco был великий путешественник Пржевальский - да оно и понятно, откуда взялись такие толки: взгляните хотя бы на памятник Николаю Михайловичу в Питере, в сквере у Адмиралтейства - особенно в профиль - разительное сходство - вплоть до мундира и усов! Но я-то лично убежден в том, что Пржевальский имеет к генезису Кобы отношение не большее, чем, скажем, лошадь Пржевальского - тоже по-своему знаменитая.)
Они делали желатиновые оттиски листовок и бомбы из нитроглицерина.
Говорят, под конец жизни Ленин впал в маразм и ел ботинки.
Он смотрел на мою родину жадным и бессмысленным взором дракона, и глаза его застилали дым пожаров и кровь мятежей. Из улитки вырос дракон.
В костромском музее, в бывшем монастыре, есть небывалая выставка насекомых - гигантская коллекция причудливых бабочек, стрекоз, рогатых огромных жуков. И там на булавке, пришпиленный к листу картона, по праву должен красоваться володька ульянов, ибо он есть опасный жук. Жук-древоточец, подточивший Древо Жизни. И оно упало, придавив собой полмира.
Кухарка Ульяновых под руководством мамы пекла пироги. А они на том же противне разливали желатин для оттиска листовок. Маленький, картавый, с большой лысой головой, Ленин напоминает мне угукающего младенца, пускающего пузыри, а пожалуй, и эмбрион. Вот так, угукая, пуская пузыри, суча ножками и ручками, он подталкивал Россию к разбою и грабежу, и она, в пьяном угаре, не заметила, как промоталась вся и сгорела - остались одни головёшки.
ЛЕВИАФАН
Когда меня спрашивают, пострадал ли я от советской власти, я отвечаю: "Нет. Это она от меня пострадала".
Туман над красным болотом. Почему болото красное? От крови? Фиолетовый туман.
Советская пресса всё клеймит бюрократов. И все понимают, что речь идет - не о том. Не в бюрократах дело, и не так они называются. Никто ещё не осмелился назвать их истинное имя - коммунисты, большевики.
Но и это было бы неправдой. Вам тут же укажут на токаря Иванова, академика Несмелова или скрипача Давида Ойстраха (или любого другого лауреата, заслуженного человека). Вот - коммунисты: они трудятся, летают в космос, защищают Родину.
В том-то и штука, что партия, захватившая всю полноту власти и всю собственность страны, обзавелась балластом - толстым буферным слоем простых и честных, пусть и не очень умных коммунистов.
Кто-то там у них в ЦК (чем-то они всё-таки занимаются) сказал: партия - рабочего класса, в ней должны быть рабочие. И погнали в партию рабочий класс. Делается это просто. Говорят мастеру:
- Вот ты, Сидор Лукич, выполняешь план, на конференции выступал - мы тебя выдвигали. Выступал ведь?
- Выступал.
- С линией родной партии согласен?
- Согласен.
- А не в партии. Надо в партию вступать.
- Да я что? Я, конечно...
Этот балласт не имеет ни власти, ни влияния, но он амортизирует партию, создает маскировочный щит. Власти не имеет, но и не так уж бескорыстно идут сюда простые люди. Квартира, поездка за границу, повышение по службе, путёвка в санаторий - да мало ли льгот у членов партии. А требуется от них одно - послушание.
Было ли это придумано сознательно? Трудно сказать. Партия - коллективное существо, типа термитника или муравейника, и действует оно инстинктивно. "Имя мне - легион", - сказал бес на вопрос Спасителя. Легион, или Левиафан - чудище, живущее в море, изображенное Томасом Гоббсом, - аллегория государства. Коллективное существо, действующее слаженно и чётко, чудовищно развившее свою способность к выживанию, хотя каждая отдельно взятая особь ничего не значит и не стоит, и выжить бы не смогла.
И не поймёшь - часть ты этого существа или пища, которую оно поглотило, чтобы выбросить, как шлак (вспомним сталинские чистки - уничтожали коммунистов; Сталин, кажется, вообще уничтожил большевиков; на смену красным пришли серые - нормальная для Левиафана смена биологических клеток - так змея меняет кожу).
Затем они ещё более расширили своё тело и область идентификации - за счёт термина "мы - советский народ". Сожрали уже почти всё население страны. За пределами остались только диссиденты и церковь.
Но и тех теперь поглотил ящер-партия: первых - перестройкой и гласностью (все теперь - диссиденты, в газетах пишут то, за что раньше сажали), вторых - тысячелетием крещения Руси (в каждом номере любого журнала - интервью с патриархом или митрополитом, в телевизоре - сплошные иконы).
Он сожрал уже пол-Европы и с вожделением смотрит на остальную её часть и на Америку - паразит, присосавшийся к миру. Россию он уже высосал и выплюнул. Этих, если свернут "звёздные войны", ему хватит еще лет на двести. Хватит детям, внукам и правнукам. А там - хоть трава не расти.
"Партия и Ленин - близнецы-братья" - остроумно сформулировал поэт. Мать-Россия родила чудовище - многоглавое, когтистое, с павлиньим хвостом (в виде православной церкви).
У него есть свой, пусть и примитивный разум, и зубы - КГБ. И оно плавает в океане крови - дракон двадцатого века, красная чума.
Эти вурдалаки хотят казаться цивилизованной страной, прикрыв орангутанговую грудь крахмальной манишкой своего академика. Это он посоветовал им совершить, показать всему миру акт "покаяния" - чтобы отмазаться, отчураться от тёмного прошлого. Дескать, это был не я, а мой старший брат - сукин сын; это он во всём виноват.
Потому и реабилитировали всех, почти вплоть до Троцкого (мертвые не кусаются), и козла нашли - Сталина - козла отпущения. Возложили на него все грехи и, взяв за рога (или, в данном случае, - за усы), с воплями вывели из стен Истории.
Очистились мы? Очистились. Покаялись? Покаялись. Данилов монастырь восстановили. Набокова печатаем. Так какого хрена вам еще нужно?
И Запад поверил. Ему хочется верить. Потому что так - легче, мягче, удобнее. Так - голова не болит. Гитлера тоже умилостивляли, ему - верили, потому что хотели верить, магически верили - будто вера эта превращает хищника, зверя в существо цивилизованное, заслуживающее симпатии и доверия.
Они и боятся-то больше всего - дискредитации - что их лишат кредита, то есть доверия. Вот и затеяли всю эту комедию с перестройкой. Лишь бы "звездные войны" свернули, лишь бы технологией поделились. А там уж...
А там уж они свернут шею кому надо - и внутри страны, и вовне.
"Близнецы-братья", "звездные войны", созвездие Близнецов...
Кушать-то хочется, а Россия съедена. Россия, похожая на яйцо, - выеденное, крашеное, красное - то ли к Пасхе в канун тысячелетия, то ли к знамени ихнему кровавому, - Русь, крещеная вторично Владимиром Ульяновым - в крови и огне. И горят над ней рубиновые звезды - кровавые слезы революции. Крокодильи слезы партии, учуявшей запах Запада.
Нью-Йорк, Париж, Монте-Карло - ах, как хочется все прибрать к рукам - все эти демократии, парламенты, небоскребы, море разливанное яхт и автомашин... Только б караул уснул, убаюканный нашей гласностью, где в хоре кающихся не слышны ни крики боли, ни предостерегающие голоса. Только бы рыцарь в панцире отложил свой меч - ракетный меч возмездия...
ДЯДЯ
Мой дядя - тамбовский шофёр. На остановках он выходит из кабины и помогает публике впихнуться в автобус, а отъехав, резко тормозит - утрамбовывает народ.
Стоял он как-то утром за пивом, а пиво кончилось. Надо новую бочку открывать. Продавщица оглядела очередь и говорит моему дяде: "На, долбани насосом как следовает". Дядя спрашивает: "Со всех сил бить?" Она говорит: "Ага". Он размахнулся и так шарахнул в днище насосом, что пробил и верхнее дно бочки, и нижнее.
Все тогда вступали в партию, дядя мой тоже вступил.
И вот собрались мы с ним как-то, выпили, и стал он хвалиться: и то у меня есть, и это, а ты, говорит, хоть и с образованием, а ни хрена у тебя нет - поскольку ты не член КПСС. Надоело мне это слушать, я ему и говорю:
- Да народ скоро коммунистов вешать начнёт. Причем не за шею, а за яйца.
Обиделся дядя, чуть до вилок дело не дошло. Но из партии вышел.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
- Горбачёв играет двумя руками одновременно, как хороший пианист, - развивал я тему недоверия. - Причем его левая рука играет мелодию инициативы граждан, а правая - аккомпанемент государственного контроля.
- Но зачем ему это нужно? - поразилась Дженифер.
- Его левая рука поливает газон из лейки, чтобы взошли побеги, а правая точит серп - чтобы сжать урожай, когда травка подрастёт...
Певец позвал нас на съезд диссидентов на юго-западе Москвы.
Приехали мы с опозданием - все резолюции уже были приняты: о многопартийности, отмене прописки, свободном выезде за рубеж... Осталось одно - выпить водки с инсургентами, что мы и сделали.
Захорошело.
Бородатый карбонарий взял гитару. Ему подпевали - стеснительный правозащитник в очках с потрескавшимся стеклом, мой друг-певец, отсидевший свое за подрывную агитацию, невозмутимая седовласая каторжанка: "Если вновь своих павших сзывает на битву Россия, то значит - беда..."
Узнав, что моя спутница - профессор американского университета, бородач очень обрадовался и, отложив гитару, стал деловито заказывать печатную и множительную технику.
Дженифер сжалась и похолодела. Пришлось срочно её выручать:
- Позвольте мне ответить вам словами не очень чтимого мной поэта: "Я теперь скупее стал в желаньях". Мне кажется, нам нужно быть скромнее, иначе наши западные друзья предпочтут иметь дело с советским правительством, решив, что это им дешевле обойдется.
В морозном автобусе, по дороге к метро, Дженифер возбужденно шептала:
- Это было настоящее приключение!..
Меня певец с самого начала представил обществу, как импровизирующего саксофониста (я и вправду аккомпанирую ему иногда на этом инструменте). Хозяин дома стал восхищённо вспоминать недавно слышанный концерт Владимира Чекасина, но вдруг осёкся, обретясь ко мне:
- Простите, может быть, вам это неприятно?
- Отчего же? - поразился я.
- Возможно, он - ваш конкурент...
На что я чистосердечно ответил:
- У Чекасина нет конкурентов!
Это правда.
Однажды я спросил моего учителя джаза, как отличить игру Чекасина, где явно присутствует хаотическая стихия, от бурно-сумбурных звуковых потоков его неумелых подражателей-авангардистов. Маэстро Виктор Мельников ответил так:
- Чекасин играет убедительно - ему можно доверять.
Впрочем, о том, что Чекасину можно доверять, я знал и раньше - когда принимал от него, в конце семидесятых, на перроне Белорусского вокзала секретную посылку для отца Александра - свежеперепечатанные главы из новой книги Меня - от машинистки, жившей в Вильнюсе.
ГЛАСНОСТЬ
- Читайте про Володьку Ульянова - опасного жука! - кричал на Пушкинской площади, размахивая самиздатским журналом "Российские ведомости", старый монархист Анатолий Кузьмич Булёв - живописный, похожий на адмирала Нельсона.
Срослись боками на стене, сцепившись, серп и молот: сражённый крест, ссечённый полумесяцем.
Сновали с сетками-авоськами советские старики, как пауки, - мрачные, вёрткие, готовые на всё.
Певец рассказал притчу:
- Сидим на нарах, на Колыме, трое: я - Петька, ты - Володька и Мишка Горбачёв. И он нам говорит: "Что же вы, ребята?! Я ведь вам открыл такую возможность - а вы ее не использовали..."
Ему виделось: идёт парад на Красной площади. Генерал кричит, а солдаты его не слушают. И вот танкист поворачивает танк и въезжает в мавзолей!
Он мечтал, что на Красной площади явится Богородица, и большевики, как тараканы, расползутся.
ЗАБЫТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО
Эмигрантка писала: мы должны забыть Россию, иначе тени прошлого не дадут нам жить.
Забыть Россию невозможно.
Я думаю, что Россия с этой земли ушла - как святые из храма Христа Спасителя.
Она ушла в диаспору.
Вышел сеятель в поле сеять. И пришел враг, и засеял поле камнями.
Бредбери угадал Россию - землю вымерших марсиан.
- Почему евреи всё делают с оглядкой?
- Они все делают с оглядкой на Бога.
(Дурачина ты, простофиля. Зачем ты съел золотую рыбку?)
Через всё небо, от края до края русской земли, раскинулась радуга - трёхцветная, царская, крамольная.
(Империя - множественное число (как и кавалерия, артиллерия, территория, и даже: Франция, Австрия, Россия).
А внизу бушевал пожар - красной тряпкой восстания, кровавыми сгустками звёзд.
Мне кажется, что советская пресса нас пугает - рассказами о пытках, истязаниях, массовых арестах и истреблении людей. Пугает жупелом Сталина, Берии, Ежова: ведь карательные органы остались, в них ничего не произошло. Так запугивают, терроризируют подследственного, пытая, мучая его близких или незнакомых людей в его присутствии - или за стеной, чтоб слышны были крики.
Само по себе членство в их партии должно считаться преступлением - как принадлежность к преступной организации. Само по себе сотрудничество с так называемой советской властью должно караться и преследоваться по закону как соучастие в мафии. Любая служба этому так называемому государству есть коррупция с бандой убийц, насильников и грабителей.
Я не должен думать о себе - я должен думать о своём деле. Я не должен забывать Россию: я должен забыть себя. Пусть она истерзана, истоптана, поругана, опоганена, испохаблена, осквернена. Пусть это отсталая страна, у которой отдавлены все конечности. Я жив, я действую - и этого достаточно для начала.
Эмиграция даёт метафизический выход - подобно монашеству, предательству и самоубийству. Подобно безумию. Это все уход из жизни. Из этой жизни. В сущности - в небытие (для этой жизни). В инобытие.
Они нас запугивают своими разоблачениями. Они нам жить не дают кошмаром прошлого. Сами же натворили (или их отцы и наставники, их духовные предтечи), а теперь садистски выставляют мерзость советчины всему миру напоказ. Это не мы - они пишут, печатают, захватив монополию массового слова. Им все позволено - вот они и раскричались. "Когда страна быть прикажет героем - у нас героем становится любой". Еще Джо обращался к "братишкам-сестренкам" - как нищий в пригородном вагоне, - чтобы потом, когда немца пугнули, снова скрутить - спрут-партия, близнецы-братья: "Сталин - это Ленин сегодня". Упаси нас Господь и от того, и от другого. Они хотят затесаться в толпу, смешаться с массой, они орут: "Держи вора!" и думают этим отмазаться. Не выйдет! Мы им не верим. Большевики должны уйти.
Они должны предстать перед судом народа. Вот только народа, кажется, уже не осталось.
Нужен международный суд типа нюрнбергского. Я предлагаю провести его в городе Тамбове.
Их покаяние - ложь, лицемерие, тактический прием, финт или блеф. Они нуждаются в том, чтобы расположить к себе сердце Запада, заговорившего о правах человека. Пока есть Запад с его военной мощью и демократией, нам нечего бояться. А умирать - так уж с музыкой. Эту музыку я и пишу - чтоб умереть с ней.
Мы чувствуем себя как-то особенно торжественно - как моряки на тонущем военном корабле, надевающие лучшие одежды. Тихая, светло-радостная обреченность.
России больше нет. Есть территория, разоренная до последнего предела. Есть разложившаяся масса дегенератов - всё, что осталось от народа. И кучка интеллигенции - последнее, что здесь есть живого, недобитого. Вся надежда на неё. Как сказал нам, студентам, Грушин в 69-м: "И на вас вся надёжа". Двадцать лет прошло. А он всё надеется, насколько я его знаю. Это был его звёздный час. Мой ещё не настал. И теперь уже не настанет.
Захватила эту территорию и этот народ банда международных проходимцев. Так захвачено было княжество Монако в средние века - шайкой разбойников: притворившись монахами, они попросились в город на ночлег, а затем истребили сильных, а слабых поработили, и царили в нем несколько столетий. Потом, наверное, смешались с населением - только название осталось: Монако (от слова "монах"). Так и эти хотят смешаться с нами. Волки с овцами. Сожрали, обожрались, друг другу глотки пообрывали. Пришло время каяться. "Не знаете, какого вы духа". Да ясно, какого - сатанинского. Вот и пишут имя Ленина на своих кровавых знаменах - главного разбойника. По-ленински - значит, по-бандитски. На что они рассчитывают, воздвигая перестроечный миф? На амнезию? На кого они рассчитывают? На западных простаков-либералов? На цинизм дельцов? На глупость нашу и рабскую покорность: съели революцию, пятилетки, террор, волюнтаризм, застой - съедим и гласность?
"Не то оскверняет человека, что входит в уста, но то, что из уст исходит". "Народ безмолвствует". Пришел новый Гришка Отрепьев. Новый враг. Вот и всё, что произошло в стране. Новый хозяин, новый волк, который ждёт, пока стадо потучнеет. А там уж...
Диаспора есть диаспора. Прах России развеян по ветру. Когда-то взойдут семена? Через двести, триста лет? Нас уже не будет.
Мы сбиваемся в кучку - гнилая, вшивая интеллигенция, виноватая не своей виной.
Ничего советского, ничего коммунистического - ленинского, сталинского, бандитского, ничего от волка хищника не должны мы принимать - да и не можем: кровавой рвотой выходит из нутра страны октябрь семнадцатого года.
О, Россия! "В терновом венце революций", в гвоздевых ранах террора. И сердце пронзено. И голени перебиты. Мучители делят твои одежды, на тебя напялив кровавую тряпку октябрьских знамен. Комом в горле, тряпкой кляпошной, ржавым штыком мародера застрял в тебе социализм.
Только и можем мы - сняв с креста, обвить пеленами и в гроб отнести.
"Многие придут лжехристы и лжепророки". Лже-Россия самозванная, наглая выпирает из всех щелей перестройки и гласности. И смердит она кровью и падалью. Лжец и отец лжи. "Отойди от меня, сатана".
Пройдите по сёлам, по окраинам городов. Народ безмолвствует.
Масса пассивна... Насильник хочет, чтобы его жертва эротически колебалась. Он недоволен её вялостью.
Ваша партия проиграна.
Они писали: "Родина" с большой буквы, потому что не кричать же: "За СССР!" или "За Советский Союз!" - а России уже не было.
Впрочем, пели же красные: "Умрём мы за РСФСР!" - и ничего, не умерли, а очень даже благополучно получают персональные пенсии.
"Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже". Работа адовая... Бесстыдно, не стесняясь: "до основанья, а затем..." А затем - мерзость запустения да горы, монбланы трупов. Об этом, что ли, мечтали российские вольнолюбцы? Царизм им был нехорош.
"Ты хорошо копаешь, старый крот".
Мы ещё в "Артеке" маршировали под такой стишок: "Раз-два! Ленин с нами! Три-четыре! Ленин жив!"
Вечно живой... С нами...
И ведь не закопали его: чтобы был всегда в наличии, вроде как спит, но всё соображает. Вот ему и докладывают.
Великий немой.
Когда же труп этот смердящий развеют по ветру? Когда же трёхцветное родное знамя зареет над Кремлем? Увижу ли? Доживу ли? О, век безвременья, достался же ты мне на долю! Время скорбей. "Претерпевший же до конца - спасётся".
Сталин решил всё взять на себя - на каком-нибудь ихнем адовом толковище - чтоб товарищей отбелить. И особенно - самого: ..........
Перестройка: они перестроили свои ряды. Раньше шли тупорылой свиньей, топча и сжирая все вокруг. Теперь развернулись цепью: левые, правые. Левый и правый фланг армии мародеров.
Любые наши соприкосновения с властями - контакт разных цивилизаций.
Преступное государство. Это не новость: была нацистская Германия, было много всякой другой пакости, вроде СССР: Золотая Орда, например.
Сталин любил Вертинского. Бандиты вообще сентиментальны. Блатная эстетика Высоцкого по душе этим уголовникам. Не случайно воров и разбойников они называли: "социально близкие".
Генсек: что-то гниющее, генитально-сексуальное, как туша Брежнева с генеральскими лампасами, гнетуще-секущее, сосущее, цепкое, как гнида, прыскающее и косящее.
Царь - это понятно: цепи, панцирь, рыцари.
Император, вперяющий острый взор, словно перо в бумагу, в необозримые пространства.
Князь: казна, казнь, указ, закон, коновязь...
Беда в том, что Россия не пережила национального унижения - того, которое претерпела Германия. Из войны эти рабы вышли победителями, орлами - это и парадокс, и дальнейшее закручивание зла.
ЛЫЖИ
- Значит, лыжи? - спросил в конце исповеди отец Александр.
- Лыжи, - сокрушённо подтвердил я.
- Вы там погибнете, - сказал он твёрдо.
SAINT-SERGE
Колокола в Париже звенели на весь храм. Им отвечали гудки автомобилей. Вся эмиграция справляла Пасху - с акцентом, въевшимся в язык, экзотично, а для себя - привычно, из года в год. Князья читали паримии, советник покойного президента, в крылатом, крестом запечатленном стихаре, басил на клиросе. Православные французы святили куличи и яйца, теплили свечи у канона. И маленьким был, как Москва десятых, русский Париж. Славянская масть отливала золотом и медом икон - точеных ликов - странных, неземных, чужеземных, туземных.
"Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Пасха красная!"
Отец Сергий Желудков, славившийся своими парадоксами, и тропарь этот пел навыворот: "Тако да не погибнут грешницы...", а когда его спрашивали - почему? - объяснял: "А что же вы хотите - чтобы мы все погибли?" Себя он считал великим грешником, хотя был он праведным мудрецом, неумело прятавшим от взоров оторванный карман пиджака. Внешне он походил на Николая Чудотворца. У него были голубые, морской прозрачности глаза. Тенорок его звенел в поднебесных высях, выводя, под скрип фисгармонии:
"О всепетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово!" Так и ушел он на небеса, как ходил по земле, - тихо и незаметно, достойно и легко. Отпевали его в иерейском облачении (от которого в жизни он за годы безвременья отвык) в Елоховском патриаршем соборе, при большом стечении людей - чего он до смерти стеснялся и по возможности избегал. В Елоховском - так уж получилось по местоположению, где застал его смертный час. И осталось в сердце церковное пение, которому отец Сергий меня обучил.
"Пасха, Господня Пасха!" Регентовал знаменитый Осоргин, Николай Михайлович, чей отец - основатель династии - купил эту землю под Сергиевское подворье вместе с домом и храмом, в то время протестантским. "Радостию друг друга обымем..."
У нас в Новой Деревне, как и повсюду в России, храм на Пасху охранял наряд милиции, и это считалось почетной службой, куда назначали в знак поощрения. Угощал милиционеров отец Александр Мень, бывший в ту пору вторым священником. Они, конечно, отказывались, но только так, для приличия. Вот и в этот раз пошли в сторожку - все, кроме одного, в штатском, оставшегося сиротливо стоять во дворе. Когда отец предложил и его позвать, стражи наотрез отказались: "Нет, этот из Комитета, мы с ним пить не будем". Батюшка вынес бойцу невидимого фронта стакан и бутерброд, и тот тоже разговелся по случаю праздника. А за столом завязалась беседа.
- Вот все говорят: зачем милиция? - рассуждал молодцеватый младший сержант. - А я в прошлом году дежурю и вижу человека, который показался мне подозрительным, потому что, войдя в ограду храма, стал выкрикивать антирелигиозные лозунги. Я - ребятам... Они его хвать под руки, а у него под мышкой - топор!
Десять лет я рассказывал друзьям на Пасху этот наш приходской анекдот...
Пока не вонзился в нашу жизнь топор сентябрьским утром 1990 года.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Разговоры об эмиграции возникали в наших общениях, неизбежные, как потрескиванье угольков в печи.
Мень был категорически против. Но советовал съездить, посмотреть...
Кочевое лето: Франция, Россия, Святая Земля... Я вылетел из Иерусалима в Москву 9 сентября 1990 года, ещё не зная о том, что на рассвете этого дня отец Александр был убит.
Тьма, разлившаяся снизу, поглотила мою родину.
И ВЫ - СВИДЕТЕЛИ СЕМУ
(Рассказ моей сестры)
"Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?"
Убит отец Александр Мень. Сумрачным ранним утром он вышел из калитки своего дома, чтобы идти к станции, на электричку - обычный его путь к церкви, где в этот день его ждали к исповеди.
Через десять минут у этой же калитки он умер, истекая кровью.
Убийца ударил его на полпути к станции, на тропе, сзади по голове топором.
Какое русское убийство! Будто из самых недр поднялась мистическая чернота. Какой-то сумасшедший, Достоевский Микитка, топор. И вся чернота российская, устремленная в этот топор, в эту занесенность. Сзади.
Топор занесен был над его головой всю его священническую жизнь. Его хотела убить и родная РПЦерковь, в ее загорском варианте, - за то, что еврей и не маразматик, как это принято в загорско-русопятском православии (в чем патриарх расписался, не поленясь упомянуть в послании к пастве о патриархийном несогласии с отцом Александром). Может быть, его убила православная черная сотня. У меня было ощущение, что его хоронят, оттеснив от всех, загородив иподиаконскими спинами, - со всею отвратительностью архиерейской службы - с коврами и ковриками, маханием свеч, лакейством: все чуждое нашей простоте служения с отцом Александром! - чужие; чужие приехали из Загорска, гнавшие его, убивавшие его.
Будто убийцы и хоронили, стаей ворон клекоча над гробом. Доклёвывая, завывая, кликушествуя. И громкий шёпот любопытных старух, из любопытства впервые сюда пришедших поглядеть: "Царские похороны".
"Царя ли вашего распну?"
Отвратительные эти похороны, когда вокруг были чужие лакеи в иподиаконских перекрестьях на спинах - не знавшие и не любившие его - а если знавшие, то подавно не любившие, - ненавидевшие! - как сгустившаяся тьма, и тьма эта накинула покрывало на сияющее его лицо, мученический лик - лишая нас, детей, последнего утешения. И эта митра, надвинутая на измученную голову, - которая так не шла ему, и при жизни казалась терновым венком, чем-то безобразным, насильно нахлобученным на прекрасный лоб. Невольник православных обычаев, варварства, терпящий их при жизни, обречен был на такие проводы. Закрыт лик (по идиотскому обычаю накрывать лицо священника) - а любопытные шептали: "Что? Почему лицо закрыто? Изрублено лицо?" А мы знали, и те, кто ночью был в церкви при гробе, видели: лик его был прекрасен, как свет, - очень бледен, но живой, с чуть рассеченным у брови лбом - вероятно, от падения. Сияющее лицо единственным источником света в сгустившейся черноте - так запомнил мой брат, видевший его одним из первых, - они с другом ездили в загорскую милицию просить его тела, - как Иосиф Аримафейский у Пилата. И я была лишена утешения увидеть его - прилетела по телеграмме только к утру, к литургии, когда все уже было по чину. (Знакомая, ехавшая со мною на аэродром, сказала: "Ты знаешь, что мы его больше не увидим?" - и потом, видя, что я не придаю значения её словам, пояснила: "Священников хоронят с накрытым лицом". И я горевала об этом.) Но когда его несли хоронить, мимо меня, по тропинке вкруг храма, - я поглядела и увидела накрытый профиль, проплывающий мимо, и вдруг - будто взгляд: сквозь; взгляд - будто он подглядывает - мне, заговорщически и даже с юмором - вот, мол, видишь: несут. Я почувствовала интенсивность посланного мне - взгляда, подгляда - сквозь ткань! - совершенно явственно, и волна утешения хлынула, и пронзила - стрела - прощания-встречи. Мы ведь не виделись неделю, и я зачем-то уехала всего-то на пять дней в Крым; накануне его смерти, лечить дочкину астму. "С любимыми не расставайтесь". Почему-то нам очень не хотелось уезжать, и я в последний день, и в день отъезда, страшно жалела о том, что, вопреки обыкновению, не спросила его благословения на поездку - постеснялась беспокоить таким пустяком, думая: пять дней - такая малость, это ничего не изменит. Какое счастье, что телеграмма нашла меня и мы успели - к руке. Она была живая и теплая.
Звонок вечером в день похорон:
- Ты прикладывалась к руке?
- Да.
- Она была тёплая?
- Тёплая, я еще удивилась.
- Да, и Ася тоже говорит: такая тёплая и пушистая рука, живая.
Меня пронзает:
- А вдруг ошибка? И он живой?
- Нет, я о другом. Дух ведь дышит, где хочет? И он послал его в руку - нам в утешение - теплом. Ошибки быть не могло, ведь было же вскрытие, судебная экспертиза. Это он для нас, нам - последнее тепло. Понимаешь - вопреки естеству... ни одна волос не упадет с головы вашей без воли Отца.
Седой волос его, в окровавленной земле. Запах крови шел от земли. Мы собирали ее с детьми, и две собаки - свидетели его умирания - глядели на нас, безмолвные, сквозь полосы забора.
Он умер под забором, и жена не узнала его. Подумала, что это пьяный. "Я не знаю этого человека".
Шёл как-то разговор о смерти. Отец сказал: "Я хотел бы умереть один".
Он умер один, под небом, и только собаки... Одна из них была из моего сна: пустой, без иконы, аналой в центре нашей церкви, я лежу ниц у аналоя и плачу беззвучно, гладя - сильно, запуская руку в рыжеватую шерсть, - большую собаку, которая тоже плачет. Мы с нею вдвоем только и знаем из всех здесь - о нем, и его оплакиваем. Потом я ее увидела въяве, когда мы с детьми собирали землю.
Кровавая эта земля должна быть зашита в антиминс, мы могли бы служить на ней литургию. Литургия на крови. Спас на Крови.
Листья, окрашенные кровью. Кровью помазанный косяк калитки (может быть, тянулся к звонку - сползающий след пальцев). Чтобы ангел смерти не поразил первенца... Жертвенный агнец, жертва. И лежит он - справа, со стороны алтаря, где жертвенник. Сам - жертвой на каждой нашей литургии. Плотью и кровью.
"Это венозная кровь, тёмная. Я не мог смотреть, как по ней ходили милиционеры, топтали ее ботинками. Я собрал ее в большой целлофановый пакет, она была как .студень - кровь свертывается. Мы вылили ее на дно могилы". "Ты видела когда-нибудь, как хозяйки выплескивают воду из таза? Столько же было крови. Ее засыпали песком, но она все равно выступала".
Воля Отца. У меня была убежденность, что это - сговор. "Так в вышнем суждено совете". Моё возмущение, в мысленном с ним разговоре: "Отец, для чего вы устроили весь этот спектакль?"
Его седой волос, с листьями, окрашенными кровью, ветки, кровавый песок - всегда на моем столе, в коробке со стеклянной крышкой, у икон.
"У вас же и волосы на голове все сочтены". Мы были - его Гефсиманский сад. Вечный гефсиманский сон (наш). "Не могли вы побыть со Мною один час..." Отче мой, для чего Ты Меня оставил? Отец - он. Он же - возлюбленный сын Отца.
- А вы за кого почитаете Меня?
"Ну что ж, поезжайте. А мы тут будем жить своей жизнью..." - мне, в ответ на просьбу благословить закордонное путешествие. И, за полгода до того, когда я, примчавшись из странствий, излагала ему свои резоны несовершенства нашего детского Рождества: "Но ты же уехала". Жене моего брата, решившей, наконец, креститься у него, по возвращении из Святой Земли: "Теперь вы креститесь во Иордане". "И вы не захотели".
Электричка, уходящая без него. Кровь. Спас на Крови. Образ Нерукотворного Спаса. Я возмечтала об ордене рыцарей примирения. На крови. Красные плащи, кроваво-красные хитоны.
"Это венозная кровь, темная". Осташвили на крыше, наблюдающий похороны. И убивающие вас будут думать, что тем служат Богу. Спасатели России?
И тьма настала по всей земле. И мы ехали по всей земле в черноте машины, в черноте ночи. "Ты знаешь, что мы его больше не увидим?" Я не слышала, потому что одна мысль стучала в голове: ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ. Страшнее этого ничего уже никогда не случится.
Кровавая заря вставала над всей землей, виденной из самолета. Кровавое утро. В небе - над всей землей.
Миша. Заплакал, нас увидав на церковном дворе. Вместо "здравствуй" - увидев другого - на плечо - и плакали, уткнувшись. Бегущая - вбегая в притвор, с розами, - Аня - огромные глаза - и кинулась ко мне, заплакав.
Час молитвы. Миг его смерти и минуты его смертного пути по тропинке должны быть для нас - колоколом в сердце, внутренним будильником. 6.40 утра - миг смерти и нашего утреннего предстояния.
Сколько раз, еще при его жизни, я клялась себе вставать не позднее семи - ради верности его бодрости, как незримый дар ему, как знак благодарности. И потом, в первые посмертные дни, думала, что это - проснуться в миг его смерти - будет легко. "Бодрствуйте и молитесь..." Но сон сковывал, и предавала его, и предаю по сей день.
"Не могли вы пободрствовать со Мною один час".
Однажды он подарил нам будильник. Будильник через некоторое время сломался - даже от отца исходящему сигналу бодрости не одолеть было нашей немощи... "От лености обвиснет потолок".
Мы были его Гефсиманией.
...У алтаря. У жертвенника. Жертва. Кровавая. Сам себя принес в жертву. Истек кровью. Умер от истечения крови.
Володя Шишкарёв: "Теперь не будет гражданской войны и еврейских погромов".
В жертву умилостивления. И опять: что это за Отец, которому милы такие жертвы? Никогда не могла этого Ему простить - как и жертвы Христа, и Отцовского искушения Аврааму.
Смертельно раненный, он шел по тропе к дому. Дошел до калитки и упал. И в этой точке тропа отразилась тропинкой в небо. Вижу его - под ручки ведомого - подхваченного - с двух сторон: Еленой Семёновной и Еленой Александровной (Елена Семёновна Мень, мать отца Александра, умерла в 1978 году. "Алик должен меня слушаться, как сын, а я его - как духовного отца", - говорила она. Никогда не забуду, как, прося меня привезти ей масла для лампады, она произнесла: "В темноте я задыхаюсь". Она была необыкновенно красива, а речь ее - торжественна и неспешна. "Её душа была в моих руках", - сказал отец Александр, когда она умерла. Елена Александровна Огнёва, близкий друг Елены Семёновны и отца Александра, умерла в Пасху 1985 года. Отец Александр плакал, её отпевая. "За ее душу я спокоен".), и - сонмы ангелов, архангелов, и шуршащий мир серафимов и херувимов. Центр тяжести прихода переместился на небо. Его там ждали.
Мария Витальевна - как Мария. Предстояние Кресту. Какая судьба. Пережить смерть сына. ("Се, сын твой", - Елена Семёновна, умерев.)
Божия Матерь, которой Елена Семёновна поручила воспитание Алика - будучи сама не уверена в своих силах - и время было лукаво, - в земной и небесной жизни как бы растворилась в этих старых женщинах, и было - предстояние у Креста, у его одиночества: небесное и земное. Уверена, что Елена Семеновна не оставила его, была рядом и видела, как он умирал.
"Кровь Его на нас я на детях наших". Когда Елена Семеновна, нося во чреве Алика, читала эти слова - они почему-то особенно потрясали её, почти падала в обморок.
"Ужасайся, бояйся небо и да подвижатся основания земли",
Шок страстной субботы. А воскресение медлит наступать.
Его Голгофа началась с его триумфальной проповеди, когда он вышел благовествовать на крышах и площадях. Пасхальный снимок в Олимпийском - голгофский, в кровавом свете. (Кровавая Пасха: жду в этом году.) Радио, телевидение - все было возможно, все было у его ног. Поставлен на крыле храма. Выведен к Лифостротону.
И с того дня никто уже не смел спрашивать Его (Мф 22. 46). Он говорил, как власть имеющий. Не таясь.
...Вышел на проповедь. Мы, привыкшие к общению с ним в "сионских горницах", вздыхали о прежних временах. Юля Победоносцева следила за ним издали, со страхом видя это головокружительное набирание высоты и скорости. "Это должно было оборваться, законы природы не выдерживали". Он был - везде, удаляясь от нас, близких, привлекая далеких. Как возносимый Христос.
Марианна сказала мне, когда мы по телефону гадали об убийцах: "А баба Вера говорит: Господь взял его к Себе".
"И когда вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе".
И был восхищен на небо (как Илия).
Мише - на жалобу, что нет сил: "Надо жить так, как будто они есть. А когда они кончаются - просто падать". Шел в час молитвы. "Я был в духе в день воскресный". В час молитвы и был взят на небо (под ручки: Елена Александровна, Елена Семеновна). Здесь остались: Маруся, Вера. "Не рыдай Мене..."
Мария Витальевна, с безошибочностью старого зэка: "Это КГБ".
"И в тот день вы не спросите Меня ни о чем". Отец Александр на нашей кухне. Переполняющее счастье - несчастье от невозможности - полноты: о чем? Нет вопросов. Есть: присутствие, он здесь и убегающее время, ибо он неминуемо уйдет.
Он дарил часы. И светильники.
Мне - Крест, без головы, в кровавом нимбе. "Ты художница, отреставрируешь". Брату - Усекновенная Глава Иоанна Предтечи на блюде - из икон Елены Семёновны, одна из любимых ею.
Сестра Иоанна (Юлия Николаевна Рейтлингер): первая написанная ею икона - с натуры, со спящего отца Сергия Булгакова: усекновенная глава Иоанна Крестителя. И сама она - "Страстная Иоанна" - пострижение в день Усекновения Главы.
"Разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребий".
Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
Теперь ваше время и власть тьмы.
Осень набирала силу, и листья окрашивались кровью. Это было неотвязно, как наваждение. Я видела кровь повсюду - особенно в мраморных прожилках метро (и особенно - на станции "Комсомольская").
И тьма настала по всей земле до часа девятого.
Когда он пробьет, этот девятый час?
"Кровавый туман застилает мне глаза".
Воздух пропитан кровью, трудно дышать.
Кровь - взыщется.
"До крови Захарии, убитого между храмом и жертвенником".
"Царя ли вашего распну?"
Конечно, Царь.
Из последней лекции: "А вы за кого почитаете Меня?
Имя Александр означает - защитник людей.
9 сентября хорошим маршем на Москву двигались несколько поднятых по тревоге дивизий из Тулы и Пскова, в полном боевом снаряжении, 60 самолетов летели на старый аэродром в районе метро "Полежаевская". Шли отряды ОМОН. Я прочла об этом уже в январе, случайно (нет привычки читать газеты). Но тогда, когда отец был убит, у меня была абсолютная уверенность в том, что своей смертью он заслонил нас от чего-то, надвигавшегося на город. Не было иной возможности предотвратить это. Итак: по тревоге - значит, ночью. Бодрым маршем идут на Москву убийцы. Рассвет. Мы все - приход - спим - кто где: пыль столбом по всей Европе, многие путешествуют загранично. Он - один. Тропа. Широкополая чудесная шляпа его - дразнилка для убийц. "Удар нанесён через головной убор". И потом - снова пустая тропа. И окровавленные очки на обочине. Может быть, ему дали прочесть приговор?
Плач о Иерусалиме. "...И вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст".
ПЛАМЯ ПАРИЖА
Как Иов, я готов возопить: будь проклят день и час, в который я родился. Беспрерывно курю, на душе тяжесть и гнет, не пустота, а наполненность - не тревогой, не заботой о пропитании и крове, о завтрашнем дне (хватает легкомыслия), а темной, мрачной тоской. Привычная, знакомая, московского разлива, а теперь еще и эмигрантская - полуэмигрантская (не решаюсь - и решусь ли? - страшусь назвать себя эмигрантом).
В Москве, впрочем, была не тоска, а депрессия - от усталости, безвыходности, безысходности жизни, отсутствия будущего, всеобщего развала, разлада всей жизни - не нашей лично, а страны - от которой укрыться можно было лишь дома да в храме. Вспоминаю Москву, Белорусский вокзал, нечеловеческие лица, звериный лик толпы - людей ни в чём не повинных, сметённых в кучу водоворотом истории - истории последнего, кажется, окончательного падения России.
Погублен человек. Заплёванные, замусоренные тротуары и переходы в метро. Лица алчные и забитые, сиротливо-озлобленные, с печатью непоправимой, с каждым днем нарастающей, страшной беды. Тесно, невыносимо тесно, как в клетке, темно, как в погребе, в России - стране огромной, превращённой в свалку и пустыню. Жить там стало невозможно, невозможно физически. И душа каменела и болью отзывалась на каждое внешнее впечатление.
Безнадежность - вот чем была для меня Москва, а с ней и вся Россия. И казалось, что желать остаться в ней могли лишь те, кто не может уехать, кто прикован к ней галерной цепью, кто встал в этой ужасной гавани на мёртвый якорь, на прикол. "О Русь! Тоски ночной и зарубежной я не боюсь..." Не боюсь? Боюсь.
Она пришла - ночная (и дневная), зарубежная тоска. Впрочем, в чем разница? Такой же стол, как в Москве (или чуть другой - какая разница?), кухня такая же или чуть иная - чужая. Но жил я и там в чужих домах, не имел своего много лет - и ничего.
Наш дом в Москве последние месяцы клубился людьми - друзьями, какими-то неясными партнёрами в переговорах, посетителями всякого рода. Привычно, как выломанный, щербатый паркет, вызывающе облупленный, распустившийся бутоном штукатурки кухонный потолок, собака и кошка, всё наше милое, поднадоевшее житьё-бытьё. И страшно было временами всё это утерять - дом, кров, ночлег. И ясно было, что - не удержать, что потеря будет непременно, так или иначе, но она произойдёт.
И мы ринулись в страшную и безоглядную - экспедицию на Запад - бегство - не от себя, а к неизбежности, ускоряя её, как неотвратимость, делавшую невозможными долговременные проекты, срывавшую с места ещё когда было именно это (теперь уже - то) место. Наше место под солнцем, которое, впрочем, редкость (не место, а солнце) в отчаявшейся хоть как-то наладить жизнь, захваченной беженцами и бандитами Москве.
Как странно - говорить о России: "там". Не манящий, благополучный, глянцевито сверкающий, Запад - "там", а Москва, Россия, вся наша жизнь, - свёрнутая в неряшливый комок воспоминаний, острыми углами ранящая душу.
Плохого в нашей жизни не было. Страшна была страна, зверевшая от года к году - да так, что и продыху не давала, заполняя все лазейки и траншеи, чтоб никуда не ушел от нее человек. Россия - ловушка, гигантский магнит, страна инфернальная и безумная, которую нельзя забыть, вычеркнуть из памяти - или можно, но только не мне.
Я тосковал о России, ещё живя в ней. Уже тосковал, зная, что непременно покину её. Я не узнавал своей страны, она как-то неприметно для меня вдруг вся переменилась, словно вывернутая наизнанку, как картина лицом к стене, как вспоротая перина и ветром разносимый чуть алый пух погрома. Она и раньше была шершавым ложем, стала же - сплошной занозистой поверхностью - ни погладить, ни поцеловать - раны, раны в ответ на все - рваные или поверхностно обидные, теснящие душу всё глубже внутрь, пока не уперлась в волевой предел: бежать, чтобы не видеть, не чувствовать каждой клеткой своего существа агонию страны.
Я ощутил как счастье, как спасение - Париж, где можно жить (если позволят) и работать (если дадут), но ты уже другой здесь, и лучше бы совсем, весь переродился. Но тени прошлого встают перед глазами, застилая улицы и кафе, и это - смерть заживо.
Мы словно умерли для той жизни, а в этой ещё не родились. Нам предстоит заново учиться ходить и говорить. Что чувствует душа умершего человека в первые дни? Третий, девятый, сороковой - до которого пока еще далеко... Что видел и слышал отец Александр Мень, когда мы его хоронили, когда и мною брошенная горсть земли упала в пасть могилы, когда сомкнулась бездна над ним и над нами - бездна горя?
Торжество зла. Так это начиналось: последнее падение России, убившей свою мудрость и совесть, свою последнюю надежду.
Как безропотно и внешне простодушно служил он ей - всё понимая, ненавидимый дураками, спасающий потерянных, изверившихся её сыновей. Он юродствовал, никогда не принимая на свой счет почестей и похвал. Он был целяще весел и внутренне серьёзен, собран всегда - как водитель машины на скверной, ухабистой дороге - машины с пассажирами, многие из которых к тому же больны. Быть бы ему царём нашим - я только так и понимал монархию - как власть отца Александра - невидимую, посланную нам от Бога. Но слишком велика и страшна страна - как пучина моря.
Я мечтал о море и возле него томился, что не увижу его когда-нибудь - скоро, потому что жизнь протекает в иных, земных и городских, прочно ввязавших в себя местах. И недавно увидел его во сне - страшным, мистически страшным, ужасным и ужасающим - своей чуждостью человеку. Так страшно и одиноко потерпевшему крушение в океане, откуда уже не выбраться никогда. Так страшила меня Россия - клаустрофобией огромных и замкнутых, или готовых сомкнуться пространств.
Она не выпускает. Или не впускает. Или дает течь или брешь, которую вот-вот залатают тюремщики. И человек вроде меня - вольный духом и болезненно привязанный к прошлому - мечется внутренне, внешне неподвижный: мышеловка захлопнулась? И что будет там, внутри ограды? Гурьбой и гуртом? Под собою не чуя страны?
"Там". А было - "тут". Яко в чреве кита Иона. Огромная, обволакивающая или - если вырвался - непроницаемая страна. Ощетинившаяся зубцами кремлевских стен.
Страшна была последняя - ночная прогулка по Тверской, по площади Красной, вымороченной. Казалось, что все умерли, кроме часовых у склепа с вечно живым мертвецом. Казалось - ибо люди были живы, и я знал этих людей.
И один из них, шедший рядом со мной, плоть от плоти этой земли, твердил, что оставаться глупо. А сам мечтал вновь очутиться на кладбище, где ему почему-то уютно среди милых его сердцу праотеческих могил. Не на Западе, а на русском кладбище, а уж если на Западе, то всё равно на кладбище - Sainte-Genevieve des Bois, которое - русское, белое, парижское - он готов столь же усердно, как тульское, классифицировать и изучать.
На Sainte-Geaevieve захоронена Россия - не мнимая, вымороченная красным лихолетьем, а та, что мнилась мне и угадывалась в особняках Москвы и старых, с крестами "ятей" книгах.
На прощанье Россия целует тебя - и оставляет в сердце своё жало.
Прививка от беженства.
РУССКИЕ
Русские очень талантливы и вечно занимаются не своим делом: учитель пишет роман, а писатель берётся учить всех.
ГЛАС НАРОДА
В вагоне метро раздавался нетрезвый голос слегка знакомого поэта:
- Говорят, скоро китайцы придут и поставят над нами японских надсмотрщиков. Уж я у русских спрашиваю: "Что думаете делать, ребята?". Они говорят: "Будем пить, пока все не вымрем". Я - к татарам. Те - то же самое...
ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ
Поэтесса спросила у Феликса Чуева:
- Феликс, как ты думаешь, в Союзе писателей кагэбэшников много?
Он тонко усмехнулся и сказал:
- Не знаю. Но я надеюсь, что они там есть.
- А кто у нас будет Генеральным? - (Звенели траурные марши в тот бурливо весенний, напоенный солнцем день.)
- Будет Горбачёв, - уверенно ответил Феликс Чуев.
- А не Романов?
- Нет. Он слишком правый.
Но это ладно...
А вот в апреле 1991 года библиотекарша в Париже рассказала мне о промелькнувшем в газетах сообщении: что СССР скоро не будет, а вместо него возникнет СНГ.
Теперь объясните мне, пожалуйста: откуда, за четыре месяца до путча и за восемь - до Пущи, - заграничная пресса могла об этом знать?
ПУТЧ
В пушкинском автобусе была обычная давка, а также и какое-то необычное возбуждение. Все что-то тихо обсуждали. Вместе с толпой я вывалился наружу возле церкви.
- Слышал? Горбача-то скинули, - сказала вместо приветствия Зина-регент, держа на отлете тяжёлую сумку с нотами. - На, отнеси на клирос.
Над окраиною городка вставал кровавый дымчатый рассвет.
От храма бросился, платком вытирая распаренный лоб, растерянный дядя Серёжа:
- Володя, говорят, сняли Горбачёва... А сейчас какой-то Минаев...
Дело было привычное - ещё со снятия Хрущёва (и тоже дождались отъезда в Крым, и так же подтягивались войска - всё та же "дикая дивизия").
"Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижеся и трепетна есть земля... Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижатся во век... Горы окрест Его, и Господь окрест людей Своих, от ныне и до века".
Отслужили литургию, народ стал расходиться. На асфальтовой дорожке, обтекаемый толпой, стоял невозмутимый бородач - тот самый, кто в своё время на вопрос, почему нас всех до сих пор не пересажали, хладнокровно отвечал: "Государству некуда спешить" - и был в общем-то прав.
- Зачем же ты, Володя, вернулся из Парижа? - сказал он мне со странной укоризной. - Теперь ведь уже не попадёшь...
По телевизору и вправду показывали "Лебединое озеро". Потом выступили путчисты, пьяные в дупель - это было заметно даже на экране. У Янаева дрожали руки. С краю за длинным столом сидел мой старый знакомец Борис Карлович Пуго - он возглавлял в 1972 году делегацию комсомола на фестивале в Болгарии, куда я ездил с университетским оркестром. Теперь он был министром внутренних дел - главным тюремщиком страны. Рожи у них были, как на подбор: хоть в зоопарке показывай. Было не очень понятно, чего они, собственно, хотят. И должности у всех были - высшие в государстве: председатель Верховного Совета, министр обороны, начальник КГБ... Загадочный был какой-то путч - вся власть и так у них в руках... .
Мира Плющ рассказала, что народ сооружает баррикады и что она уже дважды относила туда еду.
Старшина милиции пытался содрать листовку-воззвание с колонны возле "Курской". Я подошёл и увидел подпись Ельцина.
- Зачем срываете?
- Не положено.
- Почему? Наш президент написал, мы его выбирали...
Собрался народ, стал читать вслух. Блюститель скрылся.
Женщина кричала в вагоне метро: "Все идите к Белому дому!" Я пошел за нею следом. В такие моменты важно понять, куда идти.
Вышли на "Баррикадной".
С разных сторон к Белому дому стекались люди.
Навстречу брел художник - беззубый трубач.
.- На баррикады?
- Да.
- Я бы тоже пошёл, да вот - здоровье...
Выглядел он и впрямь неважнецки.
У стены Белого дома формировалась национальная гвардия.
- Офицеры, четыре шага вперед!
Я тоже вышел.
Пожилой сухопарый подполковник в крылатом дождевике оглядел наш строй, негромко скомандовал: "Р-равняйсь! Смирно! Вольно", - после чего определил задачу: стоять у стены, наблюдать за продвижением противника. К стене никого не подпускать.
- Пароль: "Свобода".
От площади по газону была растянута проволока на невысоких колышках - чтобы красные падали, спотыкаясь в темноте. (Атака ожидалась ночью.)
Всем выдали противогазы.
Стали засветло подносить доски для костров, благо кругом стояли полуразобранные старые дома.
Из уст в уста переходил экспромт Гены Хазанова: "Забил заряд я в тушку Пуго".
Говорили, что в здании СЭВ засела сотня пьяных, накачанных наркотиками советских прапорщиков, вооруженных до зубов, которые ждут сигнала к штурму.
Капитан милиции обратился к милицейскому сержанту с "калашниковым" на ремне:
- Витя, посмотри, что это за группа вон там перебегает по крыше?
Автоматчик вгляделся в десятиэтажный дом напротив:
- Ну, больших стволов я у них не вижу...
- А если стрелять придётся - по окнам верхнего этажа не попадёшь?
- Нет, я сперва трассирующими дам поверх голов, а потом уже - на поражение.
Маршал Язов отдал приказ группе "Альфа": готовиться к десанту на крышу Белого дома, а перед этим - авиации - нанести по нему бомбовый удар. Военные летчики в ответ пригрозили разбомбить Кремль. Лил проливной дождь.
В моем отделении было шесть офицеров запаса, все - бизнесмены.
Страшно болела спина.
У стены табором расположились анархисты в чёрных головных платках. Чуть поодаль солидно прохаживались казаки - осанистые, чубатые, с пышными усами, в синих гимнастёрках и просторных галифе, с шашками и нагайками - только что без коней.
Омоновец давал желающим примерить наручники.
В большом листе полиэтилена принесли сигареты и какую-то снедь.
Говорили, что мятежники отправились к Горбачёву в Крым и что он там встретил их историческими словами: "Ну что, мудаки, доигрались?!"
Полковник Кобец согласился стать военным комендантом Москвы - при условии, что ему дадут право лично расстрелять этих мерзавцев. Гена Хазанов откликнулся двустишием по местному радио: "С нами Ельцин и Кобец. Хунте наступил..." Все дружно прокричали недостающее для рифмы слово. Пришел отряд милиции из Тулы, вооруженный карабинами с примкнутыми штыками.
На рассвете по мосту скатились танки, в было непонятно, наши это танки или нет.
Пуго застрелился ("от испуга" - как срифмовал кто-то из национальных гвардейцев).
В скверике валялся сброшенный с постамента гипсовый Павлик Морозов.
На балконе пред ликующей толпой стояли Ельцин, Шеварднадзе и Ростропович.
И над Белым домом взвился трёхцветный российский флаг. Но радости не было.
Часть седьмая
СОКРОВИЩЕ СМИРЕННЫХ
ГЕРОЙ РОССИИ АЛЕКСАНДР МЕНЬ
Герой смеет то, чего не смел никто. Есть понятие культурного героя - такого, как Прометей, принесший людям огонь с небес.
"Огонь пришел Я низвесть с небес на землю".
...Мы вышли из бассейна, и я сказал Павлу Виноградову, что уезжаю в Харьков на меневские вечера.
- А, Мень, - сказал тинэйджер, что-то припоминая. - Это святой, что ли?
Я вовсе не хочу сказать, что устами младенца глаголет истина, но в народном чувстве остался след святости этого имени.
Его любили простые люди.
Помню, как на каком-то юбилее (то ли служения, то ли на день Ангела отца Александра) дядя Сережа Демакин, железнодорожник (он всю войну водил паровозы), вручил ему огромный букет цветов, которые сам же вырастил в своем саду, и, плача (у него сына убили в Иране), сказал:
- Отец Александр, мы все вас так уважаем и хотим проздравить...
А я подумал, как это было гениально сказано: проздравить - пронизать, пропитать здоровьем.
Его любили простые люди.
Как-то моя сестра пожаловалась ему, что заело хозяйство, быт... Отец глубоко задумался и ответил:
- Вчера я выкопал десять мешков картошки. - И, помолчав, прибавил по-английски: - "Ten"
Его понимали простые люди. И он понимал их.
Демократия имеет свою метафизическую, антропотеософическую глубину - неоспоримую ценность всякой личности, оправданную царственным богоподобием, уникальную, автономную самодержавность человека.
Православное учение о святых являет живой, непосредственный интерес к конкретной человеческой личности и её возможностям. Почитание святых - предельная персонализация веры, ибо они открывают нам путь, который никому не заказан. Были святые, выбившиеся в святые из великих грешников, - как царь Давид, Мария Магдалина, Мария Египетская, из гонителей - как апостол Павел, и отступников - как апостол Петр; и князь Владимир, вышедший из гонителей и грешников. И святые герои - как Александр Невский и Александр Мень.
Меня поражает редкостный и, я бы сказал, изысканный демократизм почитания святых, где не важно происхождение, образование, не важны ни природа, ни среда, а только порыв личности к Богу и Божья Воля - подхватывающая этот порыв или прямо являющая Себя человеческой личности. И в каждом из святых, каждым, через каждого из них - жив Бог.
...Землю распалял внутренний огонь: лава, магма. Жидкая земля бушевала. Её всплески и волны стали горами. И - спокойная гладь русской равнины.
Лицо отлилось: жидкое - в... не твердое, а мягкое, податливое, связанное с впечатлениями и мимикой, реакциями на события и страсти - морщины, гримасы, мина. Затем это чеканится и отливается в бронзе.
Под конец жизни отец Александр принял облик льва.
Богородица ощутила в себе Дитя от Святого Духа. На её лице отражались покой и величие Бога, и человеческое смирение, и готовность принять волю небес. Подделка здесь невозможна.
Обличает самоё себя бездарная физиономия "Марии Дэви Юсмалос Христос".
Магомет дергался в конвульсиях, впадал в смертную тоску. Человек не способен так лицемерить, так лицедействовать. Да в этом и нет внутреннего, онтологического, экзистенциального смысла.
Есть невозможность, с которой нельзя не считаться.
"Где Бог, там свобода", - не оттого, что таковы воля или свойство Бога, а оттого, что близость к Нему означает освобождение - перемещение с периферии в центр исторического бытия.
Центр - там, где мы с Богом. Поэтому освобождение - в молитве. Так возможна свобода и в тюрьме.
Свободен ли раб греха? Он действует произвольно - подчиняясь произволу демонических сил. Истинное Я - только Бог.
Мгновения уходят в вечность. Ни один взятый тобою аккорд не пропадает даром: мир един и Бог един. Эта жизнь нам дается как возможность. Все есть бытие, и небытия нет в нем. Трагедия есть утверждение добра смертью героя.
Я - что-то вроде памятника, мимо которого вы ходите каждый день - и это влияет на ваше воображение.
...Появились странные личности в маскарадных белогвардейских мундирах, галифе, сапогах и фуражках с кокардами (мне это напомнило тамбовский кровавый карнавал Тухачевского). Кто-то объяснил, что это "сычёвцы" - из умеренного крыла "Памяти". Они, невзирая на шиканье новодеревенских прихожан, встали на колени у могилы отца и склонили жёлто-черные с белым краем знамена к его кресту. Один, сняв офицерский картуз и осенив себя крестным знамением, поклонился могильному холму до земли, а другой строго пояснил: "Отец Александр - гордость русского народа".
Прихожане терялись в догадках: что это за провокация и кто бы мог их прислать? Насмотрелись тут всякого - и афганцев в пятнистых масккостюмах, и загорских попов с выражением сладостной ненависти на бравых подполковничьих физиономиях.
Рассказ сестры (после убийства отца Александра): шофер такси говорил: "Даже рэкетиры возмущаются".
Так в один день Александр Мень, бывший пастырем, апостолом и пророком, стал национальным героем.
И это не был миф. Начался новый - меневский этап российской истории. Через год был путч - отложенный на год.
И чем больше будут поносить отца его враги, тем более возрастать станет посмертная его слава, уводя в бессмертие.
И мудро поступили "памятники", что пришли и поклонились ему, склонив имперские знамена цвета осени - перезрелости земли.
Так кем же он был? Он был пневматологом - специалистом по исцелению человеческой души. Кто шёл к нему? Больные, искалеченные душой, павшие духом люди.
Он не был похож на других священников.
Ему была свойственна необыкновенная молодость.
Он прекрасно владел материалом. Отсюда - его удивительная свобода, непринужденность, ненавязчивость.
Он схватывал всё на лету и мгновенно, четко реагировал.
Никогда не жаловался, не рассказывал о себе. Это была скромность, граничившая с юродством, но никогда не переступавшая границ. И скромность его тоже знала свой предел.
Со станции в церковь он шёл пешком, иногда бегал.
Как-то раз я спросил отца Александра, какое есть средство от депрессии. Думал, он скажет что-нибудь вроде: "молитвою и постом". А он ответил: "Бег! Становитесь на старое Ярославское шоссе и бегите в сторону Загорска, пока не упадёте. И депрессия пройдёт".
Советовал путешествовать: "Надо обладать динамикой души". Говорил: "Хорошо, что в храм надо ехать, совершать путешествие, преодолевать трудности". Ещё говорил: пока ноги несут, пока сердце бьется, идите в храм. И мне, когда я жаловался ему, что вот - не удается поститься: "Ещё придет для вас время поста".
Всегда ездил на такси, которое называл машиной времени. Я как-то пошутил: "Почему у отца Александра нет своей машины? Потому, что он все деньги тратит на такси".
Вы погружались почти по уши в его глубокое кресло, съедая за рассказом половину батюшкиного обеда. Он вышибал, вытеплял студёно-голубой дух тоски смертной, депрессии и отчаяния. Это была его работа.
Когда я думаю о нем, мне вспоминается английское название книги Сэлинджера "Над пропастью во ржи": "The Catcher in the Rye" - "Ловец во ржи". Подростку снится поле ржи, а в нем - глубокий овраг, не видный за растущими стеблями. А в поле бегают играющие дети, которые могут упасть в пропасть и разбиться. И герой повести стоит у края обрыва и ловит подбегающих детей, не давая им свалиться вниз... Может быть, именно в этом смысле Спаситель говорил ученикам: "Я сделаю вас ловцами человеков"? The Catcher in the Rye. Ловец во ржи - над пропастью.
Это была открытая война с дьяволом, которую вел, то ремесленнически усмехаясь, то хмуря взмысленную бровь, отец Александр Мень.
В последний год он стал совсем седым. "Нива побелела", - пошутил я. Он был уже, как библейский пророк, усталый, величественный и ироничный.
Его службы отличались энергией, силой, чёткостью, красотой и простотой. Он немного гнусавил - влияние церковно-славянского языка с его носовыми звуками.
Моё первое впечатление в храме: старая женщина с необыкновенной, неземной, ангельской красотой лица - мать священника. Она вышла из катакомбной Церкви - подпольной, не признавшей власти сатаны. Так и воспитала сына.
Она диктовала мне Символ веры перед моим крещением.
Моя сестра ухаживала за ней в дни тяжкой, смертельной уже болезни. Рассказывала, что Елена Семёновна ночью просила зажечь лампаду: "В темноте я задыхаюсь". И это была не только астма, но и духовное неприятие тьмы.
После смерти Елены Семеновны мне остались гипсовое распятие, икона - "Голова Иоанна Крестителя" и чёрная шёлковая закладка с вышитыми цветной ниткой словами: "Непрестанно молитесь". Её лицо сияло уже светом иных миров.
Отец Александр очень её любил и заботился трогательно и постоянно. За несколько часов до её смерти звонил мне в редакцию, просил раздобыть ещё одно лекарство...
Хоронили Елену Семёновну зимой, в мороз. Мерзлую землю долбили ломами, оттаивали огнём. Гроб везли на саночках. От церкви к кладбищу шла скорбная процессия: впереди Мария Витальевна с распятием, затем, согнувшись от усердия, тянул санную веревку дьякон Александр Борисов с воспалёнными, слегка безумными синими глазами, в смешной шапке с одним поднятым, другим опущенным ухом...
На поминках я познакомился с отцом Сергием Желудковым. Голубоглазый, маленький, лысый, седой, он был похож на Николая Угодника. Глаза излучали тот же, что у Елены Семёновны, небесный свет.
Есть известная фотография: отец Сергий и отец Александр. ("И нам покажется, что мы оставлены бедой".)
Отец Александр поднимал упавших духом. Кажется, он ни о чем так не заботился, как об этом. Победить отчаяние, скуку, бессмысленность жизни - значило для него победить сатану.
Он не был похож на других священников.
Существует стандарт "попа", созданный усилиями литераторов от Пушкина до Ильфа и Петрова. Помню, сам отец Александр как-то посмеивался над собою: "не гонялся бы ты, поп, за дешевизною" - по поводу какой-то неудачной покупки (приобрёл советскую халтуру). Так вот, в нём не было ничего кликушеского, шаманского. Он отлично владел материалом - отсюда и происходила его свобода. "Где Бог, там свобода", - говорил он не раз.
У него был принцип: ничего не пускать на самотёк, всё подвергать проработке. Так различаются природа и культура. Видимо, он догадался о том, что Бог заложил в душу, как способность, задачу саморазвития, усилий и труда.
Он знал сопротивление материала - косной материи, женского начала.
Он вёл борьбу с инстинктом смерти.
В его книге "Магизм и единобожие" эта хаотическая стихия описывается как змей и океан.
Уныние у него бывало. И леность. (Он произносил ленность - как "тленность").
Силой духа он одолевал, сокрушал эти воинства тьмы. Для того и сам подметал пол, жарил картошку, сдавал белье в прачечную. Это была аскеза, то есть упражнение в добродетели.
Для него не бывало безвыходных ситуаций. От меня он требовал никогда не быть растерянным. Ему самому была свойственна предельная собранность. Лицо его было иногда суровым, вопреки обычному, я бы сказал, дежурному благодушию.
По сравнению с ним загорские священники воспринимались мной как секта жрецов.
Как-то, находясь у него в кабинете, я стал торопиться, сворачивать разговор: масса рукописей на столе, неотвеченных писем, груда книг... Он заметил, спросил: "Вы спешите?" "Нет, - я ответил, - но у вас - работа..." "Вы и есть моя работа", - сказал убежденно отец Александр.
Это не было ремеслом или профессией. Это было призвание - как царей призывают на царство.
Он отдавал себе отчет в своем значении, но и в этом был кроток и смирен - без дураков, не превозносясь, но и без самоуничижения, которое паче гордости. В нём не было ничего ложного.
Я сказал ему однажды: "Мы живем только вашим светом". Он, подумав, ответил: "Очень может быть".
Другой прихожанин спросил: "Существует ли дьявол?". И отец сказал ему: "Увы!".
Помню шок американских историков, когда я изложил им, не ссылаясь на источник, комментарий отца Александра к войне с Наполеоном: "Дикари сражались против своих освободителей" (Бонапарт отменил крепостное право по всей Европе).
Я жаловался, что нет свободы творчества - давят власти. Мень ответствовал мудро: "И Александр Сергеевич пользовался услугами нашего друга Эзопа". Как сейчас, помню сентябрьский пронзительный день в Лианозове, чужую дачу, которую я снимал за тридцать рублей в год, певучие доски веранды, по которым раздумчиво топал лёгкий в повадках, по-медвежьи ловкий и внушительный духовный мой отец. Так и звучат в моей памяти, как скрипка в сопровождении рояля: скрип половиц, аккорды башмаков. "Противно жить согнувшись, как в пещерах", - сетовал я. Он ответил: "Можно жить и согнувшись, это, в конце концов, неважно. И не забывайте, что именно в пещерах были сделаны такие открытия, как лук, копьё, огонь и, может быть, колесо".
Я пришёл к нему .в больницу, но и там он скормил мне грушу и расспрашивал о моих делах.
Письма он прочитывал в электричке, одну книгу написал за год - по десять минут каждый день, пока жена разогревала обед.
Был всегда бодр и, по возможности, весел.
Он сказал безнадежно влюблённому юноше, который ломился, как танк, к предмету своей любви: "Чресла есть у каждого". Другому: "За любовь надо бороться". А ещё в одной, и тоже безнадежной ситуации: "Пусть она будет для вас - никто".
Обмануть его было невозможно. Он был прозорлив.
Как-то утром мы с Александром Менем прикалывали к стене его кабинета карту Святой Земли. Лицо отца выглядело обожжённым - резкие черты, под глазами впадины теней: его накануне несколько часов допрашивали на Лубянке. Согнулась металлическая кнопка. Я бросил её в корзину со словами: "Если кнопка согнулась, её уже не разогнуть". "Ибо кнопка подобна человеку", - добавил отец Александр.
Согнуть его было невозможно. Только убить.
И ещё одно мне вспоминается, когда я думаю о нём: строчка из гимна русского военно-морского флота "Коль славен наш Господь в Сионе" (когда-то его исполняли кремлевские куранты и "склянки" на всех кораблях) - "Ты любишь, Боже, нас, как чад". Вот так - как чад - любил нас отец Александр.
Почему возле него часто, слишком часто были плохие люди? Он обычно отвечал: "Не здоровые нуждаются во враче, но больные". А в одном, особенно смутившем меня случае: "Всегда есть надежда".
Он отвечал перед Богом, и до человеческих оценок ему не было дела. Хотя иногда эти две позиции совпадают.
Он всерьез считал, что лень - мать всех пороков. Ему были свойственны колоссальное самообладание и выдержка, нечеловеческая воля. Он потому и смог, уже убитый, дойти до своей калитки.
Он не сдавался никогда.
День его рождения совпадал с днём смерти Ленина, который в то время, да ещё и в моем детстве, был всенародным праздником. И родственники Елены Семёновны шутили, что родился новый Ленин.
...Так случилось, что мне пришлось держать в руках записную книжку Зои Космодемьянской. Я тогда работал в "Литературной России", а в тот год праздновалось какое-то летие комсомола, и меня послали в музей Ленина, где готовилась экспозиция и грудой лежали материалы из архивов. Среди них мне попалась карманного формата тетрадка в клеёнчатом переплете - довоенный блокнот Зои Космодемьянской. Листая страницы, я обнаружил там стихи. Стихи о Ленине: "Смотрят с портрета его глаза. / Его взор упрям и лучист. / Умер семнадцать лет назад / Богатырь, коммунист.
Потом шла поэтическая заготовка - строка: "Нам Христа заменил Ильич".
Была ещё запись про Гайдара (что-то типа "Гайдар подыгрывает"). Они были друзьями - познакомились в психиатрической лечебнице. (Есть фотография: Аркадий Петрович и Зоя - в полосатых пижамах на скамейке в больничном саду.) Дальше шёл адрес штаба партизанского отряда - где-то на Песчаных улицах. Нет ничего наивнее былин о "дубине народной войны" в то время. Партизанские отряды, которые могли бы оказаться боеспособными в условиях немецкой оккупации, формировались в Москве из профессионалов. (В американской армии такие части называются "guerilla forces".) Они забрасывались в тыл противника, а уже там обрастали местным населением. Гайдар, кстати, тоже погиб как боец партизанского отряда.
А я всё вглядывался в строчку: "Нам Христа заменил Ильич". Вместо Христа. По-гречески - антихрист...
Священник, выходящий из алтаря, знаменует собой Спасителя, который вышел на проповедь. Господь называл Себя дверью, через которую народы войдут в Царство Небесное. Для меня живым образом Сына Божия и дверью в Его Царство был отец Александр Мень.
Необыкновенной была его любовь ко Христу. О Христе он знал, кажется, все. Он был высокий профессионал, блестяще знавший свой предмет.
Он берёг время и тратил его экономно и эффективно. Говорил: "Время - вещь сатанинская. Надо его преодолевать".
У нашей прихожанки умер муж. Она плакала на клиросе. Утешил её отец Александр довольно своеобразно - сказал: "Догонишь..."
Можно сказать, что он был ориентирован на вечность, он был спроецирован на вечность и сам был проекцией вечности сюда, на грешную землю, которую очень любил - конкретную: Загорск, Пушкино, Москву, Коктебель, Россию.
Отец Серафим Батюгов - священник катакомбной Церкви - сказал тётушке отца Александра Вере Яковлевне Василевской (они похоронены рядом в Пушкине - Вера Яковлевна и Елена Семеновна): "Только никогда не жалуйтесь".
Отец Александр дружил с Еленой Александровной Огнёвой. Сказал, когда она умерла: "За ее душу я спокоен". Умиротворенная, веселая, неунывающая даже в тяжелых обстоятельствах душа. Сокровище смиренных. Сокровище благих.
Есть три отношения к Богу: Он-отношение (познание), Ты-отношение (молитва) и Я-отношение (вдохновение).
"Непрестанно молитесь. За все благодарите".
Это подобно напряжению струны.
Или как стрела на натянутой тетиве.
Отец Александр понимал самосознание и труд человека как жизнедеятельность космоса. Бог есть Дух. Дух есть движение. Нельзя ничего пускать на самотек. Тут и вмешивается сатана (так в горницу, дом, выметенный и пустой, входят бесы, входит дьявол).
Мень никогда не называл себя богословом, учёным. Говорил, что степень кандидата богословия, которую он имел, - очень небольшая. Вместе с тем, отправляясь на лекции, всегда надевал нагрудный знак окончания Духовной Академии. Практически никогда не пользовался никакими записями - привычка проповедника. Говорил вдохновенно и страстно, при этом чётко рефлектировал, никогда не забываясь.
...Мог ли я "наблюдать" его (в смысле A.M. Пятигорского, нашедшего и вместе с М.К. Мамардашвили истолковавшего древнеиндийский трактат "Виджняна вада": я могу наблюдать рыбок в аквариуме, рыбки в аквариуме не могут наблюдать меня; Бог наблюдает человека, человек не наблюдает Бога)? Он знал и видел меня насквозь.
Его советы были верны и точны, но не всем нравились.
Он как-то ухитрялся справляться с гигантской массой людей, обступавших его, шедших к нему чередой. И людей, как правило, больных.
У него не было настоящих помощников - или было слишком мало. Он работал сам, один. (Последние его слова: "Я сам"). Отвечал на бесчисленные вопросы (ещё задолго до лекций, приватно). У него была привычка задумываться и отдавать себе отчет во всём.
Я знаю людей, которых он вытащил из петли. Может быть, буквально. Знаю тех, кого он не спас - но они не хотели, не верили ему.
Разумеется, не следует отца Александра обожествлять, делать из него кумира. Да это было бы и не в его духе. Но он мог бы сказать, вслед за апостолом Павлом: "Не я живу, но живёт во мне Христос".
Я спрашивал его, где (на чьей стороне) был Бог в минувшей войне. Он отвечал, что, скорее всего, Бог был сверху. Его дядя служил в финскую кампанию в Красной армии, а дядин кузен - по ту сторону линии фронта - в финской, где и погиб...
Александр Мень давал точный политический прогноз. И когда очередной раз умирал наш очередной правитель, я ехал к отцу Александру, спрашивать: что будет? Его предвидения в точности оправдались.
Он старался гасить страсти, примирять враждующие стороны. И как-то, в тяжелом конфликте, неожиданно для всех спросил: "Кто поставил меня судить вас?"
При всём своем экуменизме он был отчетливо русским православным христианином. Но было тонкое отличие его от советских попов. Он восходил к началу века, к русскому религиозному ренессансу, к эпохе Флоренского, Булгакова, Мережковского, Бердяева, к Церкви, ушедшей в катакомбы.
Чем была бы страна без него? Или если бы он избрал иной путь?
Был человек, прошел по земле, и следы его источают тонкий, животворящий аромат.
ЦВЕТОК ЛОГОСА
Как-то, по случаю дня его рождения, я сказал отцу Александру Меню:
- Вы украсили собой Москву, а может быть, и страну, как некий экзотический цветок.
Далее следовали совсем не обязательные слова о цветке, таинственным образом меняющем лицо земли, - которые, впрочем, оказались пророческими.
Но и отец Александр тогда предрёк мне дар музыкального сочинительства, которым я в те дни бездумно пренебрегал, мечтая о литературе.
Я знал, что литература - игра, причем игра азартная, а искусство чтения так же необходимо, как искусство письма. И то, и другое - искусство жить в том измерении бытия, где фактом является сознание, дух - в чистом виде, а не как глазок фотокамеры. Не вторая, а, может быть, третья сигнальная система, уводящая в лабиринты неведомого. Этот мир прорывался ко мне снами, опасными фразами в журналистском блокноте. Гонорары в тот период были разными: три года, семь лет... Так измеряется область свободы.
В детстве я очень любил читать. До такой степени, что читал всюду и везде, как гоголевский Петрушка, чем весьма огорчал своих родителей. Они предпочитали, чтобы я упражнялся в игре на скрипке. Что я и делал: ставил у себя в комнате на нотный пульт (подарок Марии Моисеевны - деревянный чёрный пюпитр с любовно вырезанным на поверхности доски двуглавым лебедем-лирой; тамбовское музыкальное училище, кстати, тоже было в форме лиры - творение русского модерна) "краснокожую книжицу" Даниэля Дефо и часами пилил этюды Шрадика - благо, делать это можно было автоматически, одними пальцами, почти без участия сознания, услаждая благоговейный слух родителей, вполголоса переговаривающихся на кухне.
У родителей моих была "Библиотека приключений", купленная, собственно, для меня. Но Мария Моисеевна, заметив острым оком страсть мою к чтению, связала её с неуспехами на скрипке, при несомненном для неё таланте, и потребовала навести здесь порядок. Что родители и сделали, заперев книги в стеклянно-деревянный шкаф. ("Господа, - сказал однажды на заседании британского парламента сэр Бойль Рош. - Не будучи птицей, я не мог быть в двух местах одновременно".) Но я выуживал их тайно, по одной и жил одновременно в двух мирах: реальном и книжном.
И вот однажды, в предисловии Майн Рида к "Квартеронке", я обнаружил поразившие меня слова: "Читатель! Перед тобой роман, и ничего более. Не считай автора книги ее героем".
В общем-то я и до того догадывался, что Джимми Хокинс - совсем не Роберт Льюис Стивенсон. Смущала позиция рассказчика - от первого лица. Но автор и читатель были в молчаливом сговоре между собой и эту деликатную сторону дела просто не обсуждали - как не вдумываются дамы и кавалеры в то, что, как сказала чеховская старая дева, "под одеждой они всё равно голые ".
Опыт поэзии был другим. Гумилев и вправду воевал, охотился на львов, влюблялся, плавал по морям и был расстрелян большевиками как белый заговорщик. Есенин "по жизни" буянил и пил. Маяковский...
Но откровение Майн Рида сыграло роковую роль. Поняв, что литература - враньё, я потерял к ней интерес, занявшись журналистикой, которая на поверку тоже оказалась враньём.
Преимущество живой жизни очевидно - человек осуществляет её как ценность и судьбу. В ней остается много скрытого от проницания человеческим взором, даже если он оснащён опытом и средствами культуры. Она есть живой поток, существующий вне и независимо от человека, прошлым и будущим своим упираясь в бесконечность, со всей очевидностью превосходящую конечность человеческого существования.
Даже телевидение, которое, как зрелище или как источник информации, ставят в один ряд с восприятием живой натуральной действительности, - целиком рационально. В нём не остается ничего не сотворенного человеком. И в этом - его неистинность. Именно в этом, а не в недостаточной похожести движущихся картин на реальные объекты. Тоска по истине более высокого порядка, чем элементарная поверхностная реальность, "слизываемая" камерой с мира, освоенного опытом культуры, - вот что лежит у метафизических корней не всегда осознаваемого, иррационального протеста живого человека против действительности, препарированной экраном массовых коммуникаций, против жизни-обмана, жизни-бегства от жизни с её проблемами и нашей ответственностью за них.
История человечества может в некотором смысле пониматься как движение от хаоса к порядку, от бессодержательного - к информационному; хаос, как известно, более вероятен, чем организованность, но усилия человечества противостоят ему. В извечном противостоянии хаоса и космоса человеческое мышление и сознание оказывается способным менять это соотношение, вырывая у небытия, вызывая из него новые сущности и смыслы и делая их принадлежностью космоса. Каждая новая симфония или книга, обретая бытие, уже не принадлежит холодной бездне хаотической неопределенности небытия.
Творчество - "такая область деятельности человечества, где наиболее остро проявляется организующий и созидающий Логос (энтропия), который противопоставляется Хаосу - беспорядку, разрушению (энтропии)". Эта идея Павла Флоренского была разработана им задолго до того, как стала одним из основных положений теории информации. Борис Пастернак осмысливал историю как установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого, говорил он, открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. История - вторая вселенная, воздвигаемая человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Творчество есть преодоление хаоса Логосом, преодоление смерти жизнью.
Любимым героем Марии Моисеевны был Алексей Стаханов - рабочий-энтузиаст, всё время перевыполнявший план.
- Вот так же и ты, - наставляла она лентяев. - Задали тебе, допустим, четыре упражнения - а ты выучи шесть!
Ей очень нравились Ван Клиберн и Хрущев.
Большой палец левой руки, нагло выпиравший из-под скрипичного грифа, учительница сравнивала с Гитлером.
Волосы она укладывала короной, по моде того времени.
Их-за детских, очень ранних табу я стеснялся проситься в уборную, предпочитая терпеть и скрывать столь низменные побуждения плоти. Я трепетал перед музой музыки, чей ястребиный профиль был откровенно неземным. И сознаться в том, что мне хочется пи-пи, я отказался бы даже под дулом пистолета.
Легко проникнув в смысл моих мучительных топтаний, богиня молча отобрала у меня смычок и скрипку, положила их на рояль, взяла меня за руку и решительно повлекла в конец полутёмного коридора, где за витой чугунной лестницей таился эзотерический учительский туалет.
Как ангел, я вспорхнул в её руках, став над мраморной бездной, а цепкие пальцы скрипачки уже пришли на помощь изнемогающему стражу горьких вод, избавляя от мук и стыда смертного.
Всякая трава на земле имеет свою звезду, а народы - архангелов на небесах.
Духовный человек должен вспомнить всё, что с ним происходило, установить непрерывность, неразрывность сознания.
Я ощутил диктат свободы - как боль невыплеснутых слов-снов. И понял, что литература - дело Божие, когда нет других резонов заниматься литературой.
Нужна артикуляция, выговаривание как поступок и твердыня. Несказанное грешит небытием.
Язык влияет на характер. Израильтяне, возродив иврит, забыли идиш, и самый образ ашкеназийского еврея стал исчезать из памяти.
Мы лепим воздушные замки - словом. Рисунок - контур, очерчивание, оглаживание, ощупывание. Означение словом - мозаика гласных и согласных звуков: неслиянно, членораздельно. Отсюда - возможность литерной кассы и клавиатуры. Но буква-звук - это иероглиф, аббревиатура, свернутый в зерно смысл. Причем здесь происходит двойная работа: кодирование и раскодирование смыслов. Смысл в чистом виде является изнутри. И это - "простое, как мычание".
Если вы хотите, чтобы ваше имя было окутано легендами, оставайтесь в России. Страна загадок, туманов, тайн, неясностей и намеков, запретов и бесчинств, самодурства и бунта. Тут нет середины, но сердцевина - есть. Её и называют - краем, хоть краев и не увидать.
Я знаю, как тяжела и опасна власть земли. В земле мы начинаем гнить либо прорастать.
Россия - как водка: горька, в больших дозах смертельна - и притягательна.
Здесь столько пространства, что время уже не имеет значения.
Все смыслы сгущаются в острие, сердцевину личности - как жертвоприношение Авраама и жертва Иисуса Христа. Как слово "царь" - острое и блистающее, напоминающее кетер - корону (венец).
Выбирая между Богом и раем, русский человек выберет Бога.
Рильке считал, что Бог - это страна. И что Россия граничит с Богом.
Часто путают рай (эдем) и Царство Небесное. У мусульман, кажется, есть представление о посмертном рае как о саде. Евреи о загробном мире знают, но молчат.
Евангельские притчи и сюжеты Библии, все эти имена и характеры - имена в той же мере, как и все слова, понятия, которыми мы пользуемся. Слово - мост между Богом и человеком. И между людьми. И отсюда - высота предназначения поэзии.
Музыка передает несказанные глаголы. Живопись открывает язык пространств.
Корона - это свёрнутый огонь.
Легенда о Мефистофеле возникла из чувства симметрии - сатана воплотившийся. Такой же загадкой является фигура антихриста (у Христа и антихриста - одно лицо).
Наша жизнь напоминает мне молитву, написанную от руки поверх сборника похабных частушек. Страшна неограниченная власть царя. Но попробуй её ограничь: начинается анархия, произвол, всевластие бояр или бесчинство черни.
Бог может не вернуться никогда. И покаяние здесь мало помогает. Есть только надежда на примирение после смерти.
- Молчат.
- Потому что много знают.
(Рыбак развесил сети у себя во дворе. Его спросили, кого он ловит. Он ответил, что летучих рыбок.)
...Как луч осциллографа, смысл описывал поверхность бытия, драматизируя рельефы и оступаясь во впадины, сам будучи иным - иной природы. Но в этом считывании, сглаживании, ощупывании реалий была любовь и было оправдание добра. Закодированное уходило в иное бытие, как книжная посылка в Магадан, как в строчку впивается нота - тень тона.
ПРАВИЛО ВЕРЫ И ОБРАЗ КРОТОСТИ
Вспоминая известного человека, мы чаще всего задаёмся вопросом: каково его влияние? Каково и на кого?
Священник Сергий Желудков учил меня церковному пению.
Помню храм Иоанна Воина на Якиманке (регентом там была жена A.M. Пятигорского Татьяна), где отец Сергий показал мне басовую партию. (До этого я пел её совершенно неправильно - ошибка многих дилетантов: строил терцию там, где нужна квинта.)
Потом я взял плохонький магнитофон и отправился на его тайную квартиру на окраине Москвы.
Отец Сергий начал с антифонов:
- Народ должен припевы петь.
(В его "Литургических заметках": "Верующему на службе нечего делать".)
- "Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит"... Псалмы Давида. Он ближе всех нам.
Саркастически исполнял, как объект уничтожительной критики, ныне очень распространённый "придворный" распев-скороговорку: "Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко сподобил еси нас причаститися..." (В интерпретации отца Сергия: "Ах, как нам всё это надоело! Скоро домой пойдём...")
Он стремился вернуть православной службе её духовную мощь и красоту.
Показывал малоизвестные в Москве новгородские распевы.
Отец Сергий держался с необыкновенным, почтительным и нежным, деликатным и твердым достоинством, поколебать которое было страшно - как спугнуть птицу.
Отца Сергия Желудкова очень любил и чтил отец Александр Мень. Называл его леворадикальным православным богословом.
- "Исполним вечернюю молитву нашу Господеви..." - (просительная ектенья) - на молящихся хорошо действует.
Он начал забывать прошения.
Отец Сергий был запрещён в служении. Возможно, ему повредило то, что он запротоколировал чудо исцеления на могиле Ксении Петербургской. (Опыт Ксении Петербургской показал, что душа - переменная величина.) И ещё вскользь упомянул, что наотрез отказался давать властям какие-то показания.
При звонке в дверь он всегда спрашивал, как-то очень по-детски:
- Кто там?
Отец Сергий был совершенно нищий и ходил весь оборванный. Раз в неделю, в определенный день и час, по уговору со старшим братом, жившим в Ленинграде, он приходил у себя во Пскове на переговорный пункт, набирал номер без монеты и, услышав ответ, вешал трубку. Так они давали друг другу знак, что живы ещё.
Отец Сергий Желудков был воплощённые бесхитростность и смирение. Воистину, "яко стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая" ("Правило веры и образ кротости", - тропарь Николаю Угоднику). Маленький, голубоглазый, лысый, седой, он и сам был похож на Николая Чудотворца, неневестных дев невестителя, от неправедныя казни избавителя, Ария безумного посрамителя, покровителя лётчиков и моряков, путешественников и узников - всех тех, кто в беде и опасности.
- "Кирие, элеисон... Парасху, Кирие... Ке то пневматику..." Мелодично очень это, и звучит ласково, хорошо.
Отец Сергий упорно пел ектенью по-гречески, и я связываю это с импульсом святителя Николая.
Ещё мы пели "Единородный..." - великопостный и сокращённого знаменного распева: прославление Святой Троицы. Отец Сергий обнаружил в музыке восхитившую его "неполную терцию", а в словах - невиданную высоту:
- До самой Троицы проник человек!
Это была живая передача традиции - привычная, со времен катакомб. Православие: как правильно славить Бога. "Аз же только свидетель семь" - сознание целого. Мы - лишь части. Целое - Бог.
Однажды я не пришел - побоялся (меня предупредили, что в доме может быть засада). Мне было ужасно стыдно, а он похвалил:
- Хорошо иногда побояться.
Отец Сергий Желудков был человек абсолютной духовной чистоты. В нем не было ничего пошлого, приземлённого, хотя ходил он по грешной земле в рваном сером пиджаке. Он был чистый и оборванный. И напоминал своим обликом Григория Саввича Сковороду, который любил говорить: "Мир ловил меня, но не поймал". "Когда ты невесёл, то всё ты нищ и гол".
Отец Сергий ругмя ругал акафисты, в своей книге всячески упражнялся в остроумии по поводу акафистов (мы рассказываем святому о нём самом) а меня и мою сестру учил петь - именно акафисты.
Очень смешно было читать и про одновременные крестины, венчание и отпевание в разных приделах храма - под крики новокрещаемых младенцев, скорбь плачущих по усопшему и ликование свадьбы.
В душе он возмущался всем этим. Противился церковной пошлости. Просил меня никогда, ни при каких обстоятельствах не петь "Царице моя преблагая" на мотив городского романса конца XIX века "Сухой я корочкой питалась" и даже прислал мне в редакцию ноты с этими двумя текстами - для наглядности назидания.
Я удивлялся тому, как охотно он общался с неверующими, но отец Сергий успокаивал:
- Это ничего, что неверующие. Важно - во что не верующие.
Он был ревностный служитель Божий. Это была ревность от чистого сердца и по уму.
Бес разрушительности действует в некоторых людях, в том числе и детях. В отце Сергии не было ничего демонического.
"Мир во зле лежит". "Князь мира сего" (он же - "князь тьмы воздушной"). Именно в этом смысле и говорил Григорий Саввич Сковорода: "Мир ловил меня, но не поймал".
"Если не возненавидите мир, вы не достойны Меня". Дихотомия, оппозиция: Бог - мир. Мир (враг) улавливает каждого человека по-своему: духом тщеславия, слабости, лукавства. Мы ловимся на мушку сентиментальности.
Иногда ловушкой оказывается любовь. Я знаю человека, заразившего (поразившего) себя духом уныния, чтобы уподобиться депрессивному наркоману, к тому же убитому впоследствии при весьма неясных обстоятельствах (говорили - забитому до полусмерти в милиции), - потому что именно в этого депрессивного, "завязавшего" наркомана была без памяти влюблена девица, в которую так же без памяти и безответно, безнадежно был влюблен наш герой - некогда веселый и бодрый, а затем, уподобившись унылому прототипу, доведший себя до полного нервного и телесного истощения - астении и неврастении. (Не случайно сказал Гумилев:
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намёками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.)
У отца Сергия его смирение не было самоуничижением, которое паче гордости. Это было смирение пред Богом. Он всё время прислушивался к своему внутреннему голосу - голосу Бога в нас.
И это не было какое-то специальное - меневское или желудковское - православие. За ним была традиция. Теодицея.
Это были живые ноты. Служение. Он не заботился о внешнем впечатлении: Бог мне судья. Перед судом своей совести. Я вспоминаю отца Сергия всякий раз, когда читаю молитвы к причастию. И - слова апостола Павла: "Те, кого не достоин весь мир, скитались в милостях и козьих кожах, в лишениях, изряднее же в гонениях".
Ему была свойственна какая-то особенная, угадывавшая мысли предупредительность, напрочь лишённая какой-либо угодливости. Это был царь в изгнании.
Вспоминается Хлебников ("Ладомир"):
"И королей пленил в зверинцы".
Мы - части целого. В нас высшее сознание - сознание Божие. Вот и сейчас, когда я говорю это, Бог мыслит и сознает мной, во мне, через меня. Я - мыслящий тростник, трость, ветром колеблемая и издающая звук - слово, логос, голос.
Мы проходили систему гласов (как славить Бога). И было ясно: "Ты любишь, Боже, нас, как чад". Мы - сыны Божий возлюбленные, продолжение Его. "Кто ны разлучит от любве Божия?" (Рим 8.35), "Истину глаголю о Христе, не лгу, послушествующей ми совести моей Духом Святым" (Рим 9.1), "По вере умроша сии вси, не приемши обетования" (Евр 11.13), "Иже верою победиста царствия" (Евр 11.33).
На кассете слышен голос отца Сергия:
- Ну что ж, я, пожалуй, исчерпался весь.
Он исчерпывался всегда, весь, до дна, и Господь вновь наполнял его душу Духом Святым и огнём.
"Кто пиет сию воду - да не возжаждет вовек".
Человек такой не умирает - смерть им не обладает.
ГДЕ КОЧУЮТ ТУМАНЫ
...Я положил Библию на подставку настольной лампы, чтобы она не падала, и вспомнил, что отец всегда подкладывал под ножку качающегося стола свое горкомовское удостоверение, говоря, что теперь стол стоит на твердой партийной основе.
(Человек не сам говорит. В нем говорят родовые структуры. Удивителен дар слова. Удивительна восприимчивость младенцев к слову - как тыкв к солнцу.)
Я родился в поселке при пороховом заводе. Теперь это город, зеленый и пыльный. Я хорошо помню его красные кирпичные дома, сосны, песок и асфальт.
Асфальт был вязкий и черный, он плавился в жару и лип к босым подошвам. Мы выковыривали его из тротуаров и играли тяжелыми смоляными шариками. У всех пацанов был в изобилии вар, который называли гудроном и жевали на манер чуингама, не ведая о существовании последнего. В большом ходу были самодельные ножи и стрельба из лука по вершинам сосен.
Здания, похоже, были построены американцами или, во всяком случае, по американскому проекту в короткий период конструктивистского флирта двадцатых годов. Там были очень странные подъезды с бетонными козырьками, холодильные ниши на кухнях, лестничные окна из рифленого неразбиваемого стекла.
Я все не мог понять, почему Атланта напоминает мне мое детство. А это были сосны. Котовск. Поселок при пороховом заводе. Эстетика асфальта и красно-кирпичных стен.
Улица имела два названия: Кирова и Будённого - для обмана шпионов-диверсантов. Наши соседи - даже и те не могли взять в толк, на какой же они, собственно, улице живут; одни уверяли, что - Кирова, другие упорно настаивали на Будённом. Лично мне больше нравился Будённый - его портрет, вполне созвучный песне, в, то время очень популярной: " Отпущу я для красы, как у Федьки-дворника, усы".
Красавец-дворник моего детства был мифологическим персонажем, поскольку дворников в Котовске вовсе не было. Зато в соседнем с нами подъезде жил абсолютно реальный пьяница-маляр Федя Беликов по кличке Помазок, чьи передник и большая кисть вполне сходили за метлу и фартук дворника. (Пьяницами, впрочем, были все жильцы нашего дома, а может быть, и всего поселка.) Кличка эта - Помазок и даже самое имя по наследству перешли к Фединому сыну Генке, который на кличку охотно откликался, против имени же - Федя - решительно протестовал, Приходя в особенную ярость от нехитрого опуса, сочиненного дворовым менестрелем: "Я моргнул одним глазком - вышел Федя с помазком. Я моргнул двумя глазками - вышел Федя с помазками".
У меня был тряпошный клоун, которого я потерял на обнесенном ржавой колючей проволокой заброшенном полигоне через дорогу от нашего дома.
В Энн-Арборе (Мичиган) такой же точно травяной пустырь именуют прерией и берегут как национальное достояние. А у нас в Котовске это был просто старый полигон, в бурьяне которого я безутешно и горько искал своего молчаливого друга в алом остроконечном колпачке и плисовых галифе.
Осенью и весной я носил пальто с таким же точно капюшоном-колпачком (Red Riding Hood). А летом - линялые трусы и иззубренный бандитский нож.
Любимым героем был Тарзан.
Мы любили лежать на обочине и обстреливать гудронными шариками машины.
- С гуся вода! - говорила мама, окатывая после купания водой из корыта.
Морозное белье звенело и ломалось, принесённое в дом.
Кто-то подарил мне значок, видимо, прибалтийский, за который меня во дворе стали дразнить почему-то румыном.
Первое сексуальное впечатление: Девочки с нижнего этажа зазвали в свою комнату поиграть и, раздевшись донага и уподобив меня полубогу, сотворили дикарский обряд почитания фаллоса - особенность анатомии мальчиков повергла юных жриц в священный трепет.
Артиллеристы, Сталин дал приказ:
Поймать фашиста, выбить правый глаз, -
пели пацаны в нашем дворе.
(Почему именно правый - непонятно. Чтобы труднее было целиться?)
Канонический текст звучал иначе:
Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовёт отчизна нас.
Из сотен тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину - огонь, огонь!
И когда впоследствии, в хрущёвские уже времена, фильм этот подкорректировали, было нелепо и смешно смотреть, как военные, дружно вставая и поднимая бокалы, поют: "Артиллеристы, точный дан приказ..."
Из нашей жизни вырезали Сталина, и чего-то в ней стало не хватать - пока его снова не врезали.
Еще пели:
Если завтра война,
Слепим пушку из говна,
Жопу порохом набьём,
Всех фашистов перебьём!
Это в известной степени отражало готовность Родины к войне (перед войной) и было понятно жителям поселка при пороховом заводе. ("Получай, фашист, гранату!")
Когда дети спрашивают меня о смысле матерной брани, я объясняю им, что это - призывание древних фаллических богов-прародителей, магическое заклинание. И - боевое искусство, которым пользоваться можно только в бою - как и всяким другим оружием.
К потолку в клубе прилипли сгоревшие спички и окурки (их подбрасывали, предварительно плюнув и потерев о штукатурку стены). Пацаны натирали ремни серой со спичечных коробков, чтобы зажигать спички о ремни - в этом был особый шик.
Среди нас были ярые сторонники широкого и узкого ремня. Преимущества и недостатки того и другого орудия воспитания детально обсуждались.
Это звёздный момент для родителя - порка ребенка: ощущение всемогущества, податливости материала, полет (сродни каббалистическому "иод", означающему царство).
Анекдоты. В них в невероятных амурных сочленениях сочетались Петр Первый и Екатерина Вторая, вечно попадали в какие-то непристойные авантюры два неразлучных друга - Лермонтов и Пушкин. А мне подумалось, что детская эротическая фантазия создавала вывороченный, искаженный, окрашенный грехом, но все же образ Царства Небесного, где встретятся те, кому это в жизни не привелось, - а было бы очень нужно.
Бежали радужные огни первомайской иллюминации. Сверкали обрамленные лампочками портреты Ленина и Сталина. В вязкой бархатной полутьме палисадника жужжали солидные, как бомбардировщики, майские жуки. И грузно звенел в отдалении молодцеватый оркестр.
Я вспомнил май моего детства, когда мы мчались с Раей и Лунет по бесконечной ночной магистрали в Атланте - это были вереницы, гирлянды движущихся огней: желтых - навстречу - и красных, обгоняющих нас. А в ресторане Данте Стеффенсона "Под палубой" ("Under the Hatcb") среди зелёных крокодилов, вальяжно дремлющих под звуки блюза в ярчайшем свете нагревательных ламп, обрамляющих борта пиратского корвета, доигрывал звездные пассажи великий Пол Митчелл - пианист с мешковатой внешностью Окуджавы - и в таких же очках.
- Мой отец был украинским пианистом, - сказал Данте, седой и добродушный, с пышными боцманскими усами. - Я даже не смог бы сейчас произнести его фамилию: что-то вроде "Шапоровский". Он был очень известен до революции, выступал с концертами - ив России, и по всей Европе. Когда началась первая мировая война, отец попал в армию. И вот в бою итальянский солдат узнал его (был однажды на концерте) и спас ему жизнь. В благодарность за это, когда я родился, отец назвал меня Данте.
- Но почему фамилия - Стеффенсон?
- Отец в эмиграции умер. Мать вышла замуж за датчанина - отсюда и фамилия...
Потом, уже в Москве, я нашел в своей нотной библиотеке потрепанный сборник, выпущенный в Киеве в 1922 году: "Repertoire Moderae. Collection des pieces pour piano, revue et doigtees par le professeur G. Chodorowski". Уж не отец ли Данте Стеффенсона?..
Про Данте говорили, что он живет в вагоне - точнее, в своем собственном локомотиве, на котором разъезжает по всем Соединенным Штатам. В жуткие январские морозы он совершил путешествие на Украину, а в другой раз проехался экспрессом по всей Восточно-Сибирской магистрали.
С Полом Митчеллом он познакомился в джаз-клубе, в начале шестидесятых годов и, открыв ресторан "Под палубой" (купил где-то старый, полуразобранный итальянский корвет), пригласил на работу. Временами
Митчелл порывался уволиться - звали в другие места, почетней и доходней, и всякий раз Данте уговаривал его остаться, и прибавлял ему жалованье. Наконец, в очередной раз, Стеффенсон решительно сказал:
- Послушай, Пол, ты ведь прекрасно знаешь, что я никогда не смогу с тобой расстаться. Давай так: будешь хозяином корвета наполовину со мной. О'кей?
И вот Пол Митчелл играет со своим трио черных музыкантов - теперь уже в своем собственном ресторане "Under the Hatch" - на квадратном возвышении, среди мерцающих керосиновых лампад на столиках, где в котелках кипит расплавленный сыр. В него макают, натыкая на длинные вилки, кусочки мяса, яблок и запивают все это дивным сухим вином, и вполголоса беседуют под волшебные звуки рояля, джазовых колоколов и шестиструнной бас-гитары. Данте Стеффенсон справедливо считает, что трапеза из общего котла, у огня, сближает и сдруживает людей.
В мужском сортире, стилизованном под офицерский гальюн, над унитазом красовалось рифмованное воззвание, выжженное на полоске фанеры щеголеватым писарским курсивом:
Друг!
Не ссы на круг.
Подними его выше.
Мне нравится американское понятие "о'кей", приучившее людей к точности и тщательности исполнения всякого дела. (Ему соответствует русское "ладно".) Говорят, оно возникло с легкой руки генерала Ли - главнокомандующего армией южан. Якобы он был малограмотным и на одном проекте приказа, подготовленном адъютантом, начертал сокращенно-фонетически: "O.K." - имея в виду, что там все правильно - "all correct" (тогда уж надо было: "А.С."). Но офицерам и солдатам пришелся по душе неологизм, и они разнесли его по всей стране.
(Хотя, по другой версии, случай этот приключился с президентом Эндрю Джэксоном.)
Слышал я и историю о том, как генерал Ли прибыл в ставку главнокомандующего войсками северян генерала Гранта, чтобы подписать капитуляцию, и после этого они вдвоем так перепились, что к утру никак не могли вспомнить, кто же, собственно, выиграл войну. Наконец генерал Грант снял с себя шпагу и, протягивая ее собутыльнику, решительно сказал:
- Что ж, генерал, ваша взяла. Поздравляю вас с победой. Это была приятная война.
(Но это, конечно, анекдот.)
...Если что и создано великого в двадцатом веке, так это джаз - воздушная крепость, противостояние авторитарным формам сознания.
Лунет горделиво сказала: - Здесь играют короли.
Когда была разбита армия генерала Ли, инструменты военных оркестров за бесценок распродавались на аукционах. Негры во множестве скупили их и стали играть на свой лад - так начиналась эра диксиленда.
Атланта была оплотом южных штатов в гражданской войне. До сих пор вспоминают защитников их последнего бастиона - протестантского храма по дороге на Чаттанугу. Помню фотографию в музее - чернокожий солдат, воевавший на стороне южан. Он не захотел расставаться со своим другом и хозяином - сержантом армии конфедератов - и пошел на войну добровольцем.
Твёрдые, звонкие, гулкие звуки рояля, их гармония создали, наряду с философией романтического идеализма, европейскую ментальность. И как созвучны они оказались африканским барабанам во времена рэгтайма!
И, конечно, африканские барабаны и возникший позднее джаз были отголосками магических культов.
Петр Демьянович Успенский утверждал, что нынешние дикари - деградировавшие потомки древнейших цивилизаций.
Возможно, наскальные рисунки - хулиганство древних подростков.
И истоки - не на Востоке, а на Западе - в Атлантиде.
(Это были периферийные области Атлантиды - Мексика на западе, Египет на востоке. Как если бы от России остались только Тирасполь и Магадан.)
В Америке смешались мистика индейцев, оккультизм африканских магов и протестантский прагматизм.
Как гениально и зло заметила Элла Лаевская, "индейские духи отомстили", - о фильмах ужасов, наркотиках и небоскребах - продолжении инковских пирамид.
Первобытные шаманы использовали отвар из мухоморов для получения галлюцинаций. Благодаря этому, как считает Василий Васильевич Налимов, у человечества возникла способность воображения. (Его дед был зырянским шаманом.)
Мэри Дилуорт протянула нам фаянсовую скульптурку, изготовленную её чёрным учеником: яйцо на ножках, обмотанное синей шерстью. Из середины обмотанного торчал бледный отросток (сучок).
- Это пенис или нос? - деловито спросила Лунет.
- Нос, - ответила Мэри.
В ее домике на озере стояла фисгармония и сушились огромные рыбы, готовясь стать настенными коллажами.
Переселяясь, народы берут с собой своих богов.
Когда негров в невольничьих цепях, в трюмах кораблей везли в Америку, африканские боги были бессильны. (Духи, местные, климатические боги.)
Понятна попытка бегства Ионы "от лица Господня". В то время думали, что от Бога можно скрыться, как от земного царя.
Путь с Богом - опасный путь. Вас может растерзать беспощадная совесть.
...Шел бродяга из моршанской тюрьмы - "сидел за Есенина". Попросил воды напиться. Мой отец (тогда - мальчик) вынес ему молока. Допив молоко, бродяга нарисовал карандашом портреты и моего отца, и его братьев и сестер, и его матери - Натальи Николаевны Мандрыкиной. И рассказал, что сидел за Есенина - за чтение вслух его стихов.
Бога можно потерять - как упасть, оступившись, лицом в грязь. И Он может не вернуться.
Мой дед Андрей Арсентьевич Ерохин работал в Котовске кочегаром.
Господь наказывает безмолвием, бесплодием иначе говоря, Он не приводит.
Социализм пахнет черным хлебом, яблочным повидлом и селедкой. Армия - тройным одеколоном, гуталином и табаком.
Я замечал, что взрослые предпочитают выпивать при ярчайшем свете люстр: им всюду чудились враги.
Друзья моего отца, хряпнув водки, крутили головами и приговаривали:
- И как ее только беспартийные пьют!
По праздникам у них были серьезные, суровые лица - норма партии большевиков.
Хоть маленькая и пусть даже косвенная принадлежность к "начальству" в корне меняла установки и привычки человека - как будто существует две правды: одна - для "народа" и другая - правда закрытых писем.
Сталин сбил ритм жизни, передвинув активность на ночные, самые темные часы. Мой отец спал в горкоме на кожаном диване, положив ноги в сапогах на стул с подстеленной газетой.
И где-то там, в глубине бытия, маячил народ - нечто, противоположное начальству.
(Вот так они всегда - ограбят, а потом поют:
Деревня моя, деревенька колхозная...
Бердяев говорил, что социализм есть жестокая сентиментальность и сентиментальная жестокость.)
Отец играл на мандолине, и целлулоидный медиатор, которым он теребил её сдвоенные струны, был вырезан, возможно, из мыльницы, а, может быть, жесткого подворотничка его офицерского кителя с большими медными, на зажигалку похожими пуговицами.
(Сталин любил повторять: "Мы - старинные русские люди...", ввёл в партшколах аристотелеву логику и мечтал короноваться.)
Наша армия выиграла войну, и русские офицеры клали ногу на ногу в обширных галифе, откинувшись на спинку дивана, привычно-горделиво, и прикуривали, сморщив гильзы папирос, давясь победным дымом, и слушали, покачивая хромом пружинистых сапог, гортанный всхлип аккордеона.
Бесшумно выдвигался, целясь, глаз цейсовского фотоаппарата, черного и громоздкого, как рессорный экипаж. "И-и валенки, д'валенки-и..." - скрипел базарный граммофон, и катился на роликах тачки небритый инвалид, звеня латунными медалями. Автобус в Тамбове был ало-золотой, с дверями-гармошками, и клик его был петушиный, как пенье диванных пружин. Пир победителей.
(Ветеран войны Василий Гаврилович вспоминал, что при Сталине всегда было пиво, водка, бутерброды с красной икрой.)
- Дай пять! - ухарски улыбаясь, предлагал какой-нибудь дворовый заводила. А когда простофиля доверчиво протягивал ему руку, быстро жал ее и, отскочив, говорил: - Будешь вечная б.., пока не передашь другому.
Так рождалось недоверие.
Это потом уже появилась новая аристократия, красивые мальчики и девочки - дети больших начальников.
"Не кочегары мы, не плотники, а мы партийные работники", - пели, подвыпив, приятели моего отца.
(Сталин играл в шахматы человеческого роста и всегда выигрывал.)
Они носили сапоги с галошами и кители защитного цвета - брюзгливое начальство. Выражение лиц было бдительно-напряженным, всегда готовым к непримиримой борьбе.
"В мире нет таких крепостей, которых бы не взяли или не смогли бы взять большевики".
Мы до слез смеялись над этой формулой с Ириной Алексеевной Иловайской, когда она сказала:
- Вот - печатают же они "Русскую мысль" в своем издательстве "Пресса" (бывшая "Правда").
Большевики поразительно легко сумели победить свою же собственную крепость - коммунизм, в одночасье оросив державу радугой трёхцветных знамен.
(Сталин любил Вертинского: заводил по ночам патефон, слушал тайком, а потом ложился спать.)
Наука политэкономия, которую отец преподавал, толковала об абсолютном и относительном обнищании пролетариата при капитализме - как будто и не было рядом наших, советских нищих. А я их отлично помню, сидевших на тротуарах, стучавшихся в каждую дверь. Мама удивлялась, что они отказываются брать хлеб, предпочитая медяки. А она помнила время, когда просили хлеб.
Женя Земцов рассказывал, как к ним пришел нищий. Ему подали вареную картофелину, и он съел ее вместе с кожурой.
"Мы не рабы. Рабы не мы. Мама мыла пилораму".
Непосильный непрерывный труд стал судьбой людей того времени. Наградой был относительный комфорт и тепло.
Вожди не спали ночами. Ленин часто работал по ночам. Сталин так и продолжал не спать. От этого развивался склероз, мозг цементировался.
Летом кители и брюки делались кипельно-белыми.
Любимая шутка Сталина: неслышно подкравшись во время застолья, подложить помидор на стул произносящего тост соратника, - к примеру, Молотова или Кагановича. Шутка регулярно повторялась - и ничего: все, как один, хлопались белыми штанами на помидор, словно и не подозревая подвоха. Вот смеху-то было! А Никита Хрущев что отмочил: больной горячкой, с температурой под 40, в расшитой украинской рубахе плясал гопака перед вождем - за что был удостоен ордена трудового красного знамени.
(Говорят, Сталина выгнали из духовной семинарии за то, что он в церковь на руках вошел. Семинария описана им в "Кратком курсе истории ВКП/б/" как завзятый источник марксистских идей.)
По фамильным преданиям, в юности мой дед Андрей Арсентьевич был сильно верующим. Священник в их селе считал его своей надеждой и опорой. Но вот как-то приехали из столицы сыновья попа - революционеры. В доказательство ложности христианского вероучения они подвели моего будущего деда к своему родительскому окну, чтобы он воочию убедился в том, что батюшка вкушает курицу - и не когда-нибудь, а в дни Великого поста. Благочестивый Андрей захворал, лежал в горячке, а когда иерей пришел его поисповедовать, покрыл пастыря старинным тамбовским матерным словом - от чего поп, в совершенном согласии со сказкой Александра Сергеевича Пушкина, "лишился языка". А дед мой, поправившись, забросил свой нательный крест в крапиву и подался в город, где выучился на кочегара.
Он был раздавлен в день получки толпой рабочих, навалившихся на кассу.
Герцен, не знаю, насколько справедливо, писал, что буржуа и пролетарии - духовные двойники: их интересы одинаковы - лежат исключительно в сфере материального, только направлены противоположно. Впрочем, Александр Иванович был барин, со всеми свойственными этому сословию причудами и предрассудками. Представляю, как раздражали яснополянских мужиков барские затеи Льва Николаевича Толстого ("пахать подано" и все такое прочее). То-то они загадили его могилу, когда пришли большевики.
Слово опасно своей легкостью: это легкость рычагов управления самолетом.
А в селе Богослов Костромской губернии комсомолки соорудили в алтаре собора катапульту, положив заборную доску поперек кирпича. Они по очереди справляли большую нужду на лежащий на полу конец доски, а затем с размаху топали по поднятому ее краю (как при игре в "чижика"), так что свежеиспеченный снаряд взлетал под самый купол, застывая на фресках причудливыми рельефами. (Соревновались - кто выше.) Когда стоявшим в селе продармейцам надоело это зрелище, они прогнали воинствующих безбожниц и начали - надо сказать, довольно метко - палить из винтовок по контрреволюционным ликам пророков и святых.
Помню, как пожилая монашка в метро сказала,
отчетливо выговаривая букву "о":
- Человек скоту уподобился...
И стоят пустые, разоренные деревни земля вымерших марсиан.
Я понял, что наши души действуют во времени, а тела - в пространстве.
Я нёс домой алюминиевую проволоку, чтобы сделать падчерице шпагу, и думал о том, как хорошо быть кузнецом, ковалем, оружейником.
И о днях, когда они лишили нас оружия.
Невооружённый человек подобен зверю - низведен на биологический уровень зубов и кулаков. Оружие - инструмент защиты, достоинство свободного человека. При Павле I офицера сажали под арест, если он выходил на улицу без шпаги. Крестьянин путешествовал с клюкой - от собак, разбойников и дураков. Посох митрополита - знак власти. (Каждый - князь в своем уделе.)
Надо было сдавать оружия, не поддаваться не паспортизации.
Меня поражало то, что в галантерейных, парфюмерных отделах универсальных магазинов такой пустяк, как одеколон, лента или туалетное мыло в обертке заворачивают в фирменную бумажку и склеивают красивой липучкой, а хлеб передается из рук в руки просто так, без всякой упаковки. Потом я понял, что это - сохранившееся, инерционное (от старых времен) разделение на господские и людские товары.
Отцов старший брат Алексей Андреевич играл до войны на скрипке в кинотеатре "Модерн". Скрипка ему досталась по наследству от нищего слепого скрипача.
Сколь многое в человеческой судьбе зависит хотя бы от такой мелочи, как год рождения. 1921-1923-й годы - почти весь этот призыв был убит или попал в плен в первые месяцы войны. Наступали и побеждали потом уже солдаты следующего поколения. Оставшиеся в живых ровесники отца были все перекалечены, и это не удивительно: огромное количество боевой техники работало специально для причинения людям вреда. Отец вернулся с войны с пробитой челюстью и стальным осколком, застрявшим в голове.
Отец мой ушел в армию в сороковом году. Он служил на румынской границе, а потом командовал штрафным батальоном, отходившим к Сталинграду.
Красная армия отступала через казачьи станицы, под палящим солнцем, по солончакам. И никто не вынес им даже ковша сырой воды.
(Помнили расказачивание...)
Двадцатилетнего лейтенанта Ерохина, раненного на переправе через Дон, спас его ординарец-грузин - вплавь дотянул до берега и отнес на плечах в медсанчасть.
Батальоном мой отец командовал один день, а точнее - один бой, потому что дней было много, а бой - один.
Война пахнет разрытой землей - запах окопов и могил.
Многие считают войну временем. А это было пространство. Пространство ада, надвинувшееся на мир. И все, что в нем происходило, было адом.
- Офицеры, которые Германию грабили... - промолвил как-то старый воин.
И в этой реплике сквозило сожаление, что грабили - без него...
Мои родители познакомились в Котовске после войны. Свадебное путешествие - на велосипеде в деревню к дяде Сереже за мешком картошки: всё, что было в доме, съели гости.
Смерть Сталина. Соседи собрались ночью у репродуктора. Мама плакала. У девочек в школах выплетали ленточки из кос и вплетали траурные черные. Повсюду полыхали флаги, красно-черные, как погребальные костры.
Белый верх, тёмный низ - пионерская форма диктовала дихотомию верха и низа, манихейский дуализм.
Митька Бушелев, недослышав взрослых (потом он действительно оглох), передавал нам:
- Сталин умер, но тело его живет.
Это отдавало жутью и было непонятно - как это: умер - а тело живет.
Рассказывали о мавзолее, где лежат вместе Ленин и Сталин, как у них сложены руки - как будто спят.
Соседке Лене-Сумасшедшей снилось, что за ней гонялся, встав из гроба, музыкант "Март" Наумович, чьи грандиозные похороны она видела в Тамбове.
В клубе над лестницей висела картина: Сталин в форме генералиссимуса, не в традиционных сапогах, а в лаковых ботинках и брюках с лампасами, спускается тоже по лестнице, в окружении народа. Так что всюду он был с нами, как живой.
(Мы вам так верили - а вы обманывали нас всю жизнь)
Горели, грели ночь рубиновые звезды. Трубка вспыхивала и гасла. Он прикуривал от звезды и шел в ночной дозор по кремлевской стене, запахнув поплотнее шинель и надвинув на лоб фуражку с такой же точно звездой.
"Засыпает Москва, / Засыпают деревни, / Только Сталин не спит, / Только Сталин не спит.."
Он зорко всматривался в рубежи родной державы, и от взора его орлиного не мог укрыться никто.
Проезжая на трамвае мимо парка "Сокольники", можно было прочесть выведенную вдоль длинного забора фольклорную надпись: "Если б не было жидов, был бы Сталин жив-здоров".
Толпа на Цветном бульваре била черного кучерявого человека, который вырывался и кричал, что он не еврей, а армянин.
Я часто думаю о том, какую роль играет в моей жизни боль. Возможно, мои мигрени - стигматы: (безусловная, хотя и незримая реальность). Отец редко не болел. Это были наши самые счастливые минуты.
Суровый и правдивый, мучимый постоянными головными болями, полный инвалид в свои двадцать три года, отец вряд ли был завидным женихом, но мама вышла замуж именно за него - защитника родины, отвергнув первейших красавцев Пензенской улицы.
...И я явственно представил себе, как он, облокотись на высокие подушки и сдвинув колпак настольной лампы, чтобы не мешать соседям, долгими бессонными ночами лежал в этой палате и читал, вдыхая запах лекарств и апельсинов в белой обшарпанной тумбочке.
Смерть и боль - архангелы войны.
На каком-то витке своей фронтовой судьбы мой отец был адъютантом генерала. Рассказывал, как однажды удалось проехать через кордон: надел генеральскую фуражку и висевший в машине китель хозяина. (Часовые отдали честь.) Возможно, он и сам мечтал стать генералом - основания были. Возможно, что теперь, в Царствии Небесном, он - генерал.
"Далеко-далеко, где кочуют туманы..." - пел картонный голос в репродукторе. И это был Котовск - город при пороховом заводе.
Сосны, песок, асфальт. Полигон, игрушечный клоун.
Домино во дворе, наборные ручки финок, трофейный аккордеон. Дождь. Трёхэтажный дом тёмно-красного кирпича.
Женщины собирали из-под водостоков мягкую воду для мытья волос.
Плоские дымовые трубы. Елка со свечами.
Меховое пальто мамы, обсыпанное снегом. Инвалид-сапожник, пропахший махрой. Луки и стрелы, синие татуировки пацанов. Красные светлячки папирос.
Я и мое тело. Я и моя душа. Я смотрю изнутри себя. Я смотрю внутрь себя.
"Вещество имея матерь, и брение от отца, и праотца персть, и сих сродством на землю весьма зрю: но даждь ми, предстателю мой, и горе воззрети когда к небесной доброте ".
Это были неправдоподобно крупные яблоки на неправдоподобно высоком дереве - и их было невероятно, фантастически много.
"Мы посадим сады, золотые плоды мы подарим отчизне своей", - вырвалось из тех лет.
Мама - глина, и почва - глина, родная земля.
Бытийственность. Я оценил её в Лианозове, где горела печь и дуб заглядывал в окно корявыми ветками.
Помню вокзал и Тамбов - вагоны, базар, карусель, заросшую лопухами Пензенскую улицу и деревянный дом моего деда.
Дед мой Степан Димитриевич Рожков был отчаянным гулякой, неудачливым партийцем и талантливым мастеровым. Он сам заливал зеркала, вытачивал резную мебель. Мне запомнился неистребимый запах махорки в его мастерской.
Дедушка сделал мне настоящую саблю, которой я очень гордился. Когда я вырос, мама подарила ее кому-то из детей нашей многочисленной родни.
На столе у деда, невероятно захламленном железными и медными аксессуарами кустарного его ремесла, стоял бронзовый бюст Ворошилова, на голове которого обыкновенно болталась великоватая для полководца военная дедова фуражка. Рука деда у запястья была грубо зашита рукой военно-полевого фельдшера.
Моя бабушка Марья Ивановна Соковина в детстве пела в церковном хоре. От нее, должно быть, моя мама унаследовала хороший голос. Мама мечтала стать артисткой, но началась война, и она пошла в школу шоферов, где давали рабочий паек, который спас от голода ее младших братьев. Когда братья Рожковы подросли, они все стали шоферами.
Лианозово было московским поместьем Бенкендорфов. Было у них и еще одно имение - в Тулиновке под Тамбовом, где родились моя мама и бабушка, где моя прабабка - красавица Мамика - служила экономкой и жила в доме барина. Мамика слыла белоручкой. От неё достался маме большой перламутровый с бронзой австрийский крест и литой колокольчик в виде лилии.
КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ
В тех местах воевал с крестьянами Григорий Иванович Котовский - герой гражданской войны, бывший до революции разбойником.
Тамбовцы хоронились в лесах. Коммунисты давили их танками, бомбили с самолетов. А потом подвезли дальнобойные пушки и снаряды с ипритом. Противогазов у повстанцев не было. И долго еще растекался по чащам, цепляясь за ветки, фиолетовый туман - пока не погибли все.
Победителей не судят - некому.
Красные думали: никто и не вспомнит. Над Россиею небо синее. Наша армия в поход далекий шла. Кони сытые бьют копытами. И некому будет отомстить.
(Вы хотите забыть свое прошлое - а прошлое бросается вам в лицо.)
Помню, как меня поразил термин "классовый отбор учащихся" в архивном документе тамбовского музыкального техникума. Пахнуло отвратительным запахом крови и падали, рвотным, смрадным ветром революции - духом помоек и отхожих мест.
Тамбов душили красные мадьяры - военнопленные царской войны.
Храмы стояли напоминанием о том, зачем человек живет, удерживая людей от озверения. В этом селе храм переделали в элеватор, а он все равно впечатлял и возвышал душу, и вселял мужество и надежду.
"На ложи моем в нощех исках, егоже возлюби душа моя..."
(Ньютон был прав. И он особенно прав в России.)
- Тухачевский повстанцев танками давил, - задумчиво промолвил отец Александр Мень. - А примкнул бы к тамбовцам - глядишь, жив был бы и по сей день...
КОММУНИСТ
Рассказывая мне про учеников моего - девятого - класса, директор, в частности, с опаской предупредил, что среди них есть Котя-коммунист, который ходит в школу с автоматом. Сам я автомата не видел, но Котя этот был и вправду коммунистом и носил в своем обитом жестью "дипломате" рогатку, полевой телефон, гранату (возможно, не настоящую) и подпольную газету "Молния", которой щедро потчевал меня, за неимением других реципиентов.
На моих уроках словесности все дети писали стихи. Котя выдал такое, почти приравнивавшее его к позднему Маяковскому (до раннего ему еще предстояло дорасти):
Дипломат
режет
матом,
как наш алкаш.
Под глазом - фонарь,
на шее - шарф,
башка - арбуз.
На ней
натянут
дырявый
картуз.
Я был в полном восторге и поначалу принял этот шедевр за историческое описание, скажем, 1919 года. Но Котя заверил меня, что это вполне современный портрет депутата Госдумы.
Взрывная энергия юного большевика нашла, как мне казалось, хорошее литературное применение, но не тут-то было. Первого мая 1993 года, когда я с другими ребятами был в биологической экспедиции в Тамани (мы ездили наблюдать дельфинов), Котя участвовал в красной демонстрации в Москве, дрался с милицией и был доставлен в участок, откуда его вскоре отпустили, но записали все данные: кто он и откуда.
И вот приглашают нас с директором школы в прокуратуру и начинают снимать допрос: что за человек этот Котя, да чем увлекается, и не ведет ли среди детей подрывную коммунистическую пропаганду. И кто, как нам кажется, на него влияет из учителей.
И вспомнилась тут мне брошюра, составленная неведомым юристом-диссидентом и весьма популярная в определенных кругах в андроповскую эпоху: "Как вести себя на допросе". (Замечательная была брошюра. Я запомнил ее наизусть.)
И почувствовал я себя ну в точности как в лучшие времена: та же прокуратура, следователь, те же вопросы, только не диссидентов ловят теперь, при новых властях, а коммунистов.
Словом, услышав первый вопрос тетеньки-следователя, я почти рефлекторно задал свой - из той самой- просветительной брошюры:
- В качестве кого и по какому делу мы сюда вызваны?
Тетенька-следователь (надо сказать, довольно молодая) несколько смутилась, но быстро оправилась и пояснила:
- Да нет, что вы так уж официально... Ваш Котя Дудукин ничего уж такого особенного и не натворил. Он у нас проходит как свидетель.
- Хорошо, - говорю я очень вежливо - так, как будто никакого путча не было - и всех прочих приятных событий, последовавших за ним (а может, и правда - не было?..). - Если он - свидетель, то мы - кто?
Это поставило ее в тупик:
- Как кто?.. Да нет, мы просто так поговорим.
- А где протокол?
Ее отношение ко мне резко переменилось:
- Протокол вам нужен?
- Без протокола разговаривать не будем.
Это был первый канон из брошюры "Как вести себя на допросе". Он значился там под литерой "П" ("Протокол "): требовать протокола.
Второй был зашифрован - на случай беспамятства, шока от побоев - чтобы без затруднений вспомнить - буквой "Л" ("Личность"): то есть - "Вы не имеете права задавать вопросы личного характера".
Далее шла буква "О" ("Отношение"): "Это не имеет отношения к делу". "
И, наконец, последняя - четвёртая литера - "Д" ("Дело"): "По какому - или, точнее, - по чьему делу меня допрашивают?". (Если дело завели на вас, показаний - в сущности, против себя самого - можно не давать. А вот свидетель, в отличие от обвиняемого, обязан давать показания. За отказ в этом случае могут привлечь к уголовной ответственности. Но сначала должны назвать обвиняемого и суть дела.)
Вся система кратко, для удобства пользования и припоминания, называлась: "ПЛОД" - по первым буквам ключевых слов: "Протокол", "Личность", "Отношение", "Дело". Запоминалось легко и всплывало в памяти автоматом.
Важной вещью была еще повестка. Если её приносили домой - ни в коем случае не надо было брать. А если взял - внимательно изучить: все ли там в порядке. И если не проставлено время визита, номер комнаты, фамилия вызывающего и, главное, - повод, по которому вызывают, - ни в коем случае не ходить. Чекисты часто забывали поставить подпись и печать, что также делало повестку недействительной.
Телефонных разговоров с ними - избегать. И особенно - неформальных контактов, к которым они почему-то были особенно склонны: предлагали встретиться на почтамте, в кафе - для дружеской беседы. Некоторые простофили на это клевали, в надежде на благоприятный исход. Да и лёгкая угрозка сквозила в голосе какого-нибудь Геннадия Николаевича, как они себя обычно рекомендовали по телефону: лучше мы уж так, непринужденно - да и дело пустячное, - словом, встретимся - поговорим. Вот этого делать было ни в коем случае нельзя: беседа непременно записывалась на карманный диктофон. И хотя это были не более чем агентурные данные (как и телефонные прослушки, откуда чекисты черпали богатейшую информацию о былом и думах московской религиозной интеллигенции), которые пришить к делу было нельзя, но использовать в допросах обвиняемого - можно. (Какой-нибудь ничего не значащий факт: с кем пил пиво в Дзинтари; - и, многозначительно: "Нам не только это известно. Так что колись, брат, а то хуже будет".) А вот собственные показания замороченного всезнанием властей диссидента к делу пришить было можно. А там - суд, срок и повышение Геннадия Николаевича в должности.
Не все были такими грамотными, как диссидентский юрист. Властей боялись. Надеялись на добрые взаимоотношения, не понимая: человек на работе, он - охотник, а ты - жертва. Единственный разумный выход - не входить в контакт. А уж если привезли в наручниках - требовать протокола. И не подписывать, если что-то в нём не так. А не подписанный тобой протокол ни один прокурор у следователя не примет - швырнёт да ещё скажет, чтобы задницу им подтер: нет подписи - значит, филькина грамота, а не следственный документ. Время-то было уже не сталинское, система-то уже трещину дала.
Помню, как попался на крючок чекистской задушевности Женя-католик (не трудись, Геннадий: имена изменены). Уж сколько раз я ему говорил: не ходи, не встречайся с дядей-сыщиком в курилке библиотеки. Пошел. И раз, и два. На его показаниях, в основном, было построено потом обвинение, по которому посадили (не в тюрьму - статью не подобрали, а в дурдом) наивно и крепко верующего лидера молодых московских христиан.
У меня за годы советской власти выработалась хорошая привычка - как можно меньше знать: чтобы случайно под пытками не выдать. По телефону не болтать. И не разбрасывать бумажек.
Мой друг, будучи спрашиваемым о будущем, которое нас ждет, отвечал с присущим ему реализмом: "Три по пять", - что означало: пять лет тюрьмы, пять - лагерей и пять - по рогам (то есть - ссылки с поражением в правах).
Коля Ахохов, напуганный предчувствием обыска, собрал все свои богословские рукописи и христианский самиздат в два больших чемодана и вышел на улицу ловить такси. Погрузился - тут подсели с боков еще два пассажира и отвезли его прямо на Лубянку. Он выдал всех. Я встретил его через пару лет на выставке авангардистов. Он был весь седой - в свои тридцать с чем-то лет.
Ещё одного парня - организатора молитвенных групп - долго не могли поймать: не давался в руки. Тогда посадили за хранение и распространение антисоветской литературы (нашли при обыске "Архипелаг"). Сидел он где-то в Средней Азии, и там, в лагере, с ним каждый день беседовал марксист-политработник. Сошлись на христианском социализме. И подбил талантливый контрпропагандист тосковавшего по жене и детям узника, уговорил - выступить по радио. Тот выступил, покаялся, назвал какие-то имена и вышел на свободу. А через несколько месяцев выпустили из тюрем и лагерей всех диссидентов вообще - раскаянных и нераскаянных, просивших о помиловании и не просивших: время пришло горбачевское...
Протокол вести тётенька не захотела, а предложила написать на Котю Дудукина характеристику. Директор школы нерешительно взглянул на меня.
- А каков юридический статус этого документа? - поинтересовался я. - Это что - свидетельские показания?
- Нет.
- А что тогда? Донос?
- Вот что, - сказала следовательница. - Вы мне устраиваете перекрестный допрос. Выйдите, пожалуйста.
Я вышел и минут сорок читал на подоконнике (что я читал? кажется, Набокова - "Bend Sinister"), а потом услышал из распахнутой двери соседнего кабинета раздраженный бас начальника:
- Как не хотят? Их ученик бил дубинкой милиционера... Да покажите им видеофильм!
Фильм мы смотрели все вместе. И, увидев на экране балбеса Котю, который, надев трофейный шлем и идиотически улыбаясь, размахивал отнятой у какого-то милиционера дубинкой, поняли, что школьной характеристики не миновать. Написали так называемую "объективку": что учится средне, увлекается поэзией...
"Никогда, ни в одном сне лет десять-пятнадцать назад мне не могло бы присниться, что я буду на следствии отмазывать коммуниста", - подумал я, когда мы вышли в ослепительно сияющий, чуть затенённый казённым зданием переулок.
А друг мне вечером сказал:
- Да все они - одна шайка.
POINT OF VIEW
Я сказал президенту Наполеоновского общества Олегу Соколову, что, по-моему, Бонапарт был просто-напросто разбойником. И пояснил свою позицию:
- Если человек не исследует явления природы, не пишет книги, не изготавливает скрипки, а рубит головы, меня это почему-то раздражает.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
- Я глупа, - сказала Ирина. - Что-нибудь не то скажу католикам или протестантам - еще обижу.
Это очень понравилось архиерею: и то, что она против католиков и протестантов, и - в особенности - что глупа.
Возможно, он спросил ее и о Мене.
- А, этот, еврей-то? - небось переспросила Ирина.
Вопрос о ее игуменстве был решен бесповоротно. И о вечном покровительстве Московской Патриархии.
Раньше так принимали в партию.
Впрочем, и в игуменство поставляли так же точно.
СЕРОГЛАЗЫЙ ОТШЕЛЬНИК
"Ах, если б знала, из какого сора растут стихи, не ведая стыда".
Сероглазый отшельник не ведал стыда - он, поставивший эти строки Ахматовой эпиграфом к своим стихам.
Ах, Анна Андреевна! Вот он - сероглазый отшельник - действительно не ведал греха.
И, ощущая эту нехватку как лишенность, он стремился хотя бы раз в жизни испытать не ведомое ему чувство. Но ни свальный грех в общине, ни монастырские мужские игрища не дали ничего - стыд не приходил...
АЭРОПОРТ
Люди в пестрых и толстых халатах говорили на каком-то своем языке, напоминающем русский мат. Словно подтвердилась гипотеза об азиатском происхождении сквернословия.
БРЕМЯ БЕЛЫХ
- Русские научили их мочиться стоя, носить штаны и многим другим полезным вещам. А что получили взамен? Нож в спину, как и полагается в таких случаях.
- Люди не любят благодеяний. Это их унижает. Они предпочитают подарки.
- Построили там дороги, города, завезли им все - от грузовиков до медицинского оборудования. А они все равно живут кланами, родами.
- Люди, облагодетельствованные вами, жестоко отомстят вам за ваши добрые дела.
- Завезли туда оружие, в том числе и атомное...
- Как было не плюнуть в душу таким благодетелям ?
- Зачем было просвещать дикие племена - например, создавать для них университет? Они жили в степях, пасли стада и были по-своему счастливы. И жили бы так еще тысячи лет. Царизм в их жизнь не вмешивался. Да и международную ссылку-тюрьму устроил из этой земли Сталин.
- Восточное сознание - как зеркало, в котором ничто не отражается.
- Зачарованный остров...
ПОСЛЕДНИЙ КЛАССИК
Венедикт Ерофеев жил метафизически убедительно. Под конец жизни он уже вообще ничего не говорил, а только посылал всех на хрен.
РУСОФОБИЯ
- Вождь славянофилов Алексей Хомяков утверждал, что англичане - это искаженное "угличане" - уроженцы города Углича, и что они-то и есть настоящие славяне: рискованное утверждение. Как-то странно это все по-английски: встать из-за стола слегка голодным, уйти не прощаясь. Английский юмор - это когда не смешно. И ездят они по левой стороне, и буквы у них все звучат наперекосяк... То ли дело по-русски: попрощаться и не уходить, раскрыть душу, нажраться, покрыть матом и блевануть. Каждый русский в душе Хлестаков - болтун, хвастун и авантюрист. Александр Меншиков - первое лицо после государя - был и первым вором. А население страны можно условно разделить на две категории: на пьяниц и алкоголиков. Я не мог понять, почему отец Александр Мень говорил, что бессмысленно пить в нашем климате. А теперь понимаю: "Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные"...
- Наверное, он имел в виду, что мы и так спим на ходу. В романских странах вино - часть еды, в нордических - праздник и релаксация, в славянских - погибель и разгул.
- Русский человек глуп. Он может быть гениален, обладать чистыми помыслами, свят. Но ему не хватает здравого смысла. Поэтому гибнут его самые лучшие начинания. И царь у нас милостью Божией, и поезда ходят милостью Божией. И сами мы, если и живы еще, - так исключительно милостью Божией. Чтобы войти в церковь, надо подавить тошноту. Маразматические предания старцев... О, какой разный Христос пришел к англичанам и русским, людям Запада и Востока! Когда методисты просят: "Сделай меня глупым, сделай меня пустым", - это ни в коем случае нельзя слушать православным с их тоской по юродству. Англичане делаются чуточку менее рациональными, а русские - теряют остатки здравого смысла - безоглядно, радостно, пьяно и рьяно, в экстатическом рвении языческого народа, приложившего к бремени креста свою исступленную мистику.
- Смысл жизни у каждого свой.
- "Возлюби ближнего, - говорят лицемеры, - возлюби всех." Возлагают на тех, кто верит им, бремена неудобоносимые, истребляя смысл. И нечего противопоставить окружающей ненависти, потому что задача - непосильная.
- Не надо испытывать терпение русского человека, ибо оно велико. Но затем наступает предел, а за пределом - мрак.
- Все эти болтуны - политические деятели - живут в мире каких-то мифов. Один считает, что государство должно всех накормить. Другой - что нам должны отойти Финляндия и Аляска...
- Какая может быть Дума в стране дураков? Нужен квартальный надзиратель, околоток, городовой.
- Государь?
- Теперь об этом трудно даже думать. Романов поступил как штафирка, как тыловая дрянь: бросил державу шайке разбойников, в разгар войны оставил армию без главнокомандующего. Царь предал свою страну и свой народ.
- Всякая власть от Бога.
- Причем чем она больше - тем дальше...
- Люмпена возьмут власть.
- Тогда мы будем ходить и убивать их по одному, пока они не убьют нас.
Нет счастья на земле. Но нет его и выше.
Времена скручиваются. Крутые идут времена. Россия - совесть мира. В этом смысл России.
Часть восьмая
ЛЕС И САД
ИЗ ГЛУБИНЫ
Нежданный звонок. Шероховатый голос с картавинкой:
— Привет. Это W.
— Какая W? —
Она назвала фамилию моего врага.
— Ты звонишь довольно регулярно — каждые семь лет. Последний раз это было вскоре после убийства отца Александра Меня...
— Я тогда уехала в Америку.
— А сейчас?
— Я там живу.
— В каком штате?
— В Вермонте.
— Работаешь там?
— Нет.
— А что делаешь?
— Пишу. Иногда вожу экскурсии.
— Ты вышла замуж?
— Да.
— А как же... — я назвал имя своего бывшего шефа.
— Никак.
— Ты его оставила?
Молчание в трубке.
— У вас ведь, кажется, две дочери?
— Они со мной. Обе в университете.
— Последнее время, как это ни странно, я тебя вспоминал: заканчиваю роман.
— Имена подлинные?
— Почти.
— Пожалуйста, измени моё имя.
— Зачем?
— Не хочу, чтобы все знали о тех мерзостях, которые я творила.
— Я не знаю ни о каких твоих мерзостях. Да если бы и знал, не стал бы их описывать.
— Всё равно. Измени имя.
— Хорошо.
Вот так персонаж воздействует на текст.
ЭМАНАЦИЯ
Я нес костюмы на помойку и явственно ощущал, как от меня отделялись мои прежние оболочки.
Эта книга - моя оболочка.
И в овощном магазине в Твери на продавцов кричал, в сущности, не я: это кричали шляпа и плащ моего отца - партийного работника.
КРОВЬ
Детей поили рыбьим жиром. Это был кошмар нашего детства, который скрашивал гематоген - бычья кровь.
"Там съезжаются лорды из своих резиденций посмотреть на рабочую, нашу алую кровь".
Лорды, как и буржуи, были почти неантропоморфными существами. Да еще резиденции, в которых они жили, - логова резидентов, то есть шпионов, где плелись сети антисоветских заговоров, клеветы и диверсий.
Кровь у них, понятное дело, была голубая. "Я сын рабочего и старого партийца..." - пел мой отец.
Мы с ним честно поделили этот фольклорный образ: он - сын рабочего, я - старого партийца.
У нас в Тамбове был культ еды. Считалось, что надо съесть как можно больше. И выпить.
Была у моего отца мечта - город Воронеж, которая так и не осуществилась.
В культе "простого рабочего" был некий снобизм, какая-то избранность, даже, пожалуй, элитарность.
"Я сын рабочего и старого партийца. Отец любил меня и я им дорожил. Но подвела (или довела) отца проклятая больница - туберкулез его в могилу уложил".
Конечно, больница во всем виновата - врачи-вредители, гнилая интеллигенция. Тут уже попахивало смертью Горького и Фрунзе. Да и Сталин: "Если б не было жидов, был бы Сталин жив-здоров". Он был популярен: гений, такой же тупой, как и все.
"Ах, эта улица дала мне званье вора".
Их и называли: социально близкие. Да что там "социально"! Близкие по всем статьям: и цели, и методы те же. Терминология только была разная. А так: грабь награбленное - вот и вся идеология.
Демагогия. Начальство очень любило это слово, обозначая им все, что говорило не начальство.
Воронеж был для моего отца тем же, чем для меня - Париж.
САМОСОЗНАНИЕ
Мир есть поэма материи, которую пишет Бог. Единственной истинной реальностью является сознание.
Реальный мир - "майя" индусов. Для них реальнее духовная реальность. Если удастся доказать ее существование вне индивидуальной психики и вне культуры, мы решим проблему вечности.
Наше слово Бог - лишь символ, выражающий наше отношение к абсолюту, выразить смысл которого невозможно ввиду его непостижимости.
Бытие мира определяется сознанием абсолюта.
Бог в человеке раскрывает его самого - как и ум. Бог есть способность.
"И тьма не объяла Его" - в трехмерном пространстве.
Бог - реалист. Он создал этот пейзаж и всех животных, звезды и свет.
Ум звериный - от Бога, человеческий - к Богу.
Мне кажется, что Бог изобрел тигра, чтобы показать Свою мощь. Тигр, сильный, свободный, живет в джунглях, делает, что хочет. Как же силен и свободен должен быть Тот, Кто его создал!
Люди похожи на цветы. Запах и красота привлекают пчёл. Бытие для других - смысл существования.
Движение изнутри вовне - крутообразное. Так дерево обрастает кольцами лет -_ лат. Оно покоряется - покрывается корявой корой. Кора, как и скорлупа, - засохший сок.
Корни дерева скрыты в земле. Их нельзя обнаруживать. Природа по-своему стыдлива.
У человека все наоборот - не как у яблони, что питается с помощью скрытых в земле корней, а цветы и плоды выставляет напоказ. И яблоки на яблоню совсем не похожи.
Побег - и молодая ветка, и бегство (убегание) от родительского ствола. Не случайно говорят: молодой побег.
Яблоко завязывается, разворачивается изнутри наружу.
Я - распространяется, как радиоволны.
Движение по орбите.
В себя уходят, как в воронку. Засасывающая глубина, бездна. Или пустота. Человек устроен, как земля Гераклита: его сожигает внутренний огонь и греет внешний - Святого Духа. Отсюда возникают архетипы: овладение огнем, Прометей.
Я закручивается, сжимается, как часовая пружина, а затем... А затем она раскручивается!
Единственной подлинной реальностью является человек - самосознание, личность, сам в себе и для себя. Он осуществляет миротворение, создает свою действительность. Образ этого - творчество, произведения искусства и ремесла, земледелие, садоводство, мореплавание. Все связи искусственны, навязаны нам, как и все обязанности. Человек свободен и может поступать по своей совести. Он не связан ни прошлым, ни настоящим, ни будущим. Родовые связи так же внешни, как и любые другие. Человек отвечает только за себя. Родовая стихия должна быть преодолена. Есть только человек. И мир реален только через человека.
Попытка коммунистов превратить "Я" в "Мы" была регрессом - возвращением к пещерному сознанию.
Мы знали: жизнь человека ничего не стоит.
"Умри, но так, чтобы смерть твоя была с пользой для партии".
"И что б я ни делал - пред Родиной вечно в долгу".
"Из-за таких, как ты, страна не досчитается двух кубометров газа".
"Если враг не сдаётся, его уничтожают".
"Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой".
"Даже вошь оскорбится, если сравнить её с предателем".
А я так понимал, что не только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой, но и любой человек, каким бы ничтожным и маленьким он не был.
Мы читали о маразматических похождениях оказавшихся в оккупации профессиональных политиков, которые роковым образом доверялись именно тем людям, которым как раз и не следовало доверяться; дилетантов, взявшихся по-любительски за диверсионно-подрывную работу в тылу противника.
Была герой-девица, на свой страх и риск устраивавшая в деревне за линией фронта поджоги и пойманная русскими крестьянами.
И то ли пьяный, то ли выполнявший преступный приказ герой, заваливший вражеский пулемет своим телом.
А чего стоил популярный в мои детские годы фильм Звезда", где советский разведчик рванул себя вместе с врагами миной, спрятанной за пазухой, - подняв руки вверх и дернув кольцо взрывателя зубами?
А солдату израильской армии, если он попадёт в плен, приказано выжить.
УСТОИ
От дискомфорта немедленно к комфорту - в этом цель цивилизованного действия. А суть - в знании последствий.
Совершенно правилен принцип эпикурейцев: стремись к удовольствиям и избегай страданий. Иное дело, какие это удовольствия и какие страдания.
Это могут быть высокие наслаждения из сферы духа и нравственные терзания.
И принцип стоиков: стой спокойно и твердо в океане
Принцип циников: все естественное нормально.
Израильский солдат: приказано выжить. Камикадзе: приказано умереть.
Я, как еврей, листаю книгу своей жизни справа налево - от последних записей к первым.
Свидетель - тот, кто рассказывает о своем опыте, о том, что он пережил сам. Всякий иной занимается распространением слухов и сплетен.
Литература - вторая реальность.
Как это трудно и как мощно: суметь выразить любую мысль.
По закону своей совести: по Божьему закону.
Гениальный адвайтский вывод: меня нет. Есть только Бог.
БЛАГИЕ ПОМЫСЛЫ
Гордость соответствует достоинству. Странно, если бы червонец уподобился пятаку. И наоборот. Есть медные, серебряные, золотые монеты. И каждая имеет свое достоинство.
Христиане нередко перестают различать добро и зло из-за слишком наивно, буквально понятых заповедей любви к врагам и всепрощения. Это приводит к ценностному релятивизму и психическим аберрациям.
В "Домострое" сказано: "Будучи послан с каким-либо делом, иди именно туда, куда тебе назначено, и выполняй порученное тебе, не взирая ни на что, не отвлекаясь ничем посторонним". Так, идя по Божьему призыву, не глядим по сторонам и не отклоняемся, даже если нас увлекают в сторону благие помыслы.
ОРГАНОПРОЕКЦИЯ
У дельфина ноздря на затылке.
У слона нос, рука и губа соединились.
Видение Маяковского: "А рядом, с лицом, что равно годится быть и лицом, и ягодицей, задолицая полиция".
Сирано де Бержераку массу неприятностей приносил нос.
"Нос" Гоголя оторвался и вёл автономное существование.
Психоаналитики увидели в этом сексуальную символику.
Исполненным символики казался им и Мальчик-с-Пальчик.
И - Дюймовочка Андерсена.
ПОЛ
Пол - та или иная сторона (человеческого существа).
Бог пола не имеет. Вместе с тем подчеркивается Его мужество: Отец.
Женская сторона Божественного существа выражена идеей Софии - Премудрости Божией.
Богородица...
Пол (floor) как основа, базис, фундамент, берег ("об он пол Иордана"). Оберег, уберег.
Латиняне фиксировали в термине "sex" рассечение и часть.
В славянском языке это выражено яснее и лучше: пол, половина. При их соединении востаёт цельный человек.
От тела человека исходит, излучается энергия. Излучение.
Мы говорим: пол-яблока, пол-арбуза. И не спрашиваем при этом: какой пол?
Исцеление - восстановление. Coitus - соединение. Gents - мост.
Счастье - соединение частей (полов, половин). Нераздельный человек. "Мужчину и женщину сотворил их.
Sex - от латинского sectum. Secare: рассекать, разделять. Часть - секция, секта. Насекомое: insect - поделённое на части, всечённое, рассечённое, усечённое.
Усекновение. Вивисекция.
Разлука любящих сердец - всегда вивисекция.
EX TERRA
И земля, и вода суть эмблемы первовещества (материи) - по ионийцам.
Культура - обработанная почва (земля). Почва - початок - зачаток - зачало - начало, зачатие. Почка. Почивать. Почва почивала до обработки (культивации).
Интеллект - вскапывание земли (in tellum).
Terra и terror - земляное страшилище, ископаемое чудище (чудовище).
Культивация - культура - культ.
Памятник Магомету стоял в сквере около мечети в Твери, исламизируя пространство.
ЗЕМЛЯ И КРОВЬ
- Я, помню, назвал как-то нашего старшину антифашистом - так он ужасно возмущался.
- Ну да, ведь "антифашист" буквально значит - "вместо фашиста".
- В СССР называли немецкий нацизм фашизмом, чтобы избегать термина "национал-социализм", потому что строили социализм.
- В Италии не было антисемитизма - и в принципе не могло быть - это было бы просто смешно. Попробуйте отличить итальянца от еврея!
- Муссолини подвесили за ноги те, кто питали к нему личную неприязнь: он оскорблял людей, накачивая их, в качестве наказания, касторкой. По дороге домой они обкакивались, что и показано в фильме Феллини "Амаркорд".
- Немцы измеряли черепа - иначе отличить их от евреев просто невозможно. Русские смотрят на носы - и поступают очень глупо, потому что русские должны быть именно носатыми, в отличие, например, от мордвы.
- Взять, к примеру, украинский народ. Является он богоносцем или нет? Или он входит, как часть, в великий русский народ? Или, наоборот, русские являются частью великого украинского народа, если считать от Киевской Руси?
- Кстати, я придумал, что делать с Черноморским флотом! Его надо отдать Крыму - для нужд туризма.
- Жители севера Франции и севера Германии так же схожи между собой, как жители юга Франции и юга Германии. Когда мы говорим: "Франция", имеется в виду не менее тридцати совершенно различных народов - провансальцев, гасконцев, бургундцев, норманнов... То же самое - Германия. И тем более Россия. А уж Англия - слоеный пирог, еще и горизонтально поделенный. Италия - то же самое.
- Да отец Александр Мень вообще говорил, что все народы Средиземноморья, как бы они ни назывались, - один и тот же народ.
НОЧНАЯ БАБОЧКА
Симеон Новый Богослов писал: "Сатана, с подчиненными ему духами, приобрел право с того времени, как при посредстве преслушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение от Бога, невидимо колебать и ночью, и днем словесность каждого человека, одного много, другого мало, одного больше, другого меньше, и не иначе можно оградиться уму, как непрестанной памятью Божией. Когда силой креста напечатлеется в сердце память Божия, тогда он утвердит и непоколебимости словесность".
О том же: "Рцы слово твердо".
Теплота сердечная упоительна и озарительна. Она прозрение дает - глаза и зерна. И сквозь времена пронзает знанием. Дает знамения. Теплота сердечная, радость - Дух Божий в нас.
И вместе с тем - детям опасно читать Ветхий Завет (масса соблазнов). Монахам - тоже опасно.
Скорбящий демон Лермонтова, Рубинштейна, Врубеля, напевший Сарасате "Тарантеллу дьявола", - тот же падший, к мерцанию звездных небес стремящийся дух, который водил пером Уайльда и Бердслея.
Боже, Боже, куда деваться: жизнь - скорбь, и смерть - скорбь.
Мне приснилось Царство Небесное. Меня вела в него сестра - через чистилище с добродушными уголовниками в грубых татуировках - к дому-терему, где на пятом этаже с лоджией, увитой цветами, жила Мария Моисеевна. Нас провожали больные дети.
Проснувшись, увидел черную бабочку на розовой стене - низко, над самой поверхностью рояля. Подумал: когда это она успела сюда залететь? Оказалось - прозрачный ангел отбрасывал тень, подсвеченный коридорной лампочкой, - "яко купина, древле горящи".
"Яко огня, да бежит мене всяк злодей, всяка страсть..."
Тянуло холодом из мглы ненастной ночи - стоял изменчивый апрель.
Слабое, но реальное утешение: скорбящих много. Так устроен мир.
ЛЕС И САД
Мы живём в расширяющейся вселенной. Бог продолжает Свое творчество. Он видит и чувствует мир нашими глазами, нашими органами чувств. Он мыслит в нас. Творчество .всегда божественно. И хотя в нем сильнее всего проявляется личность, оно (по механизму: эвристики, вдохновения, осенения, озарения) трансперсонально, надлично. Бог есть личность, и Он творит нами и в нас. И нас. Ежеминутно. Клетки делают карьеру, становясь из клеток функционирования организма клетками головного мозга.
Бог вменил нам ум, дух, который есть движение, деятельность, действие. Его нормальное состояние - рост, как и всего живого. Когда кончается рост, начинается распад. Это верно и для жизни духа.
Бог не меняется - неизменно Его свойство: рост. Он растет. И мы богословски верно произносим: "Христос раждается - славите. Христос с небес - срящите". Образ Бога-Младенца: "будьте как дети". Дитя развивается и растет, неустанно познает и осваивает мир. Эта способность дана нам от рождения. Кем дана? Небесным Отцом. И Сыном, Которым мы спасены. И Духом Святым, Который действует в нас.
Христос сказал: "Не бойтесь: я победил мир".
Он победил (попрал) смерть (Thanatos).
Он есть Бог-Любовь (Eros).
И здесь возникает ценностная, аксиологическая проблема. Сотериология - учение о спасении - предметно сопряжена с панейрологией - учением о зле.
Мы не можем выбросить проявления зла за пределы мира, ибо мир пределов не имеет. Надо найти им соответствующее место.
Смерть - великий отстойник, низ, подол, помойка мира. Совершается отброс, неизбежный, как и сопротивление материала, ибо мир во зле лежит. Напомню, что свалка мусора в древнем Израиле называлась геенной, и она была действительно огненной - мусор сжигали.
Душа обязана трудиться. Как самолет - лететь вперед, чтобы не упасть.
Вспоминаются слова отца кибернетики Норберта Винера: "Человек создает в мире всеобщего хаоса островки порядка и системы".
Так возникает парадигма: лес и сад.
Образование - выявление, проявление Божьего замысла о человеке. Распаковывание смыслов. Alma Mater (мать кормящая) не конструирует и не лепит, не сочиняет ребенка, а только кормит, выкармливает его (управляет, выправляет, направляет: от "кормила" - рулевого весла на корме - кромке - крае корабля). И так же, как в зародыше, а затем ребенке разворачивается (распаковывается) генетическая программа - так же совершается и духовный рост. Мы только проявляем то, что заложено в человеке. Здесь происходит и духовная борьба, ибо мир духовных сил амбивалентен. Нужно вглядывание, вслушивание в личность ребенка - не навязывание, не натаскивание. Особенно если это дети, прошедшие катастрофу (родовая травма, генетические нарушения, стресс). Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) писал:
"Дьявол искажает образ Божий в человеке; мы, хирурги, его исправляем". Та же задача, применительно к человеческой душе, решается лечебными педагогами.
Совершается контрнаступление сил тьмы. Восстание ангелов. Бунт взбесившейся твари (ангелы и демоны - тоже тварь).
Задача сатаны - вернуть мир из бытия в небытие, привести все в состояние хаоса (безразличного смешения), а затем и хаоса - зияющей пустоты, того ничего (nihil), из которого Бог сотворил все.
Что больше всего? Ничто.
Наступает энтропия - тепловая смерть вселенной.
Ей противостоит негэнтропия - информация и творчество. Иерархия. Сложность и разнообразие.
Вот почему так драгоценна индивидуальность и личность, неповторимость образа всякого человека.
Вот почему так опасен застой. Возникают духовные л пролежни на теле Церкви.
Сопротивление творчеству - недоподавленный мятеж взбесившейся твари.
Как сказал поэт, "здесь остановки нет" - есть лишь движение назад, к небытию.
Бог - Творец, Бог - Отец, Бог есть Дух, Бог есть Любовь. "Где Бог, там свобода", - не уставал повторять за апостолом Павлом отец Александр Мень.
Православие - невероятно ёмкое понятие. И очень ясное, если отбросить всёе и всяческое самозванство.
И оно не сводимо ни к одной из своих частей. И оно растет, как все живое. Не разбухает, а растет - становится зрелым, крепким, мудрым, ответственным и терпеливым.
В нём есть ядро и периферия, кора, шелуха. Но кора нужна, и она - застывший сок, как и древесная кора.
Да не спорят корни с кроной, а крона с корой. Нам нужно все, как кораблю - парус, чтобы плыть, и балласт, чтобы не перевернуться. Как птице нужны и крылья, и когти. Все - достояние Божие и Божья
Мы - участники великой мистерии рождения и смерти Бога. Мы - свидетели Его воскресения, ибо Он явился сердцу, в сердце каждого из нас.
Православие, конечно, фундаментально, консервативно, устойчиво, и потому оно - крепость. Но в нём ещё есть тайна, которую знали исихасты. И она светилась в глазах Соловьёва, Флоренского, Меня.
Свидетельство религиозного опыта строго интимно и глубоко индивидуально. Оно не верифицируется и неоспоримо. Мы можем распознать своих по вере их - и это подобно вспыхнувшей влюбленности. Нельзя навязывать любовь. Нельзя навязывать Бога.
Может быть, наиболее часто повторявшиеся Христом слова: "Не бойтесь".
Церковь - тело Христово. Эти слова надо понимать буквально. Мы - органы Бога. И Он живет, мыслит и чувствует внутри каждого из нас. Я скажу вам больше. После Он-отношения (открытие Бога), Ты -отношения (молитва) возникает Я-отношение.
Бог открывается нам. Он откровенен с нами. И по-настоящему, всерьез сказать: "Я" - может только Бог.
"Часть моя Ты еси, Господи... "
Потому так болит душа грешника. Бог томится в смрадной темнице. Ему тяжело. Дух дышит, где хочет. И покидает оскверненный храм. Приходит богооставленность, страшная, как безумие и смерть. "Смерть грешников люта..."
Грех - это ошибка, неверно выбранный курс. Страшен, собственно, не грех, а его последствия - как прыжок с крыла храма и падение на землю. Как поклонение сатане и последующее рабство. Последствия наступают неуклонно - но они отличны от причин.
Любовь - это чувство. Но с нас спрашивают не за то, что мы чувствуем, а за то, что мы при этом делаем.
Богооставленность ведет к духовной смерти.
Воля к смерти - наш человечий первородный грех.
Прощение стирает грех.
Христос победил смерть.
Христиан отличает воля к бессмертию. И путь к нему - творчество и любовь.
"Вы куплены дорогой ценой". Выкуплены.
Отец Александр Мень говорил не раз, с иронией и огорчением, даже с каким-то оттенком обиды, о тех, кто приходит в церковь ловить кайф.
Говоря о творчестве, вспоминают притчу о талантах. И о сосуде, который не ставят под спуд. И о ветхих и новых мехах. Все эти притчи рассказывал Спаситель, и рассказывал, конечно, не зря. (Как и притчу о мудрых и глупых девах. Имущему воздастся, у неимущего отымется.) "Стойте на страже и бодрствуйте со Мной". "Да не воздремлет и не уснет храняй Израиля". Нет места духовной спячке, дремотному, блаженно-хмельному состоянию.
Растения могут жить в полусне. Мы этого себе позволить не можем - нам многое дано.
Надо жить так метафизически убедительно, чтобы истина этого бытия сияла своей очевидностью.
Духовное делание - это непрестанный рост, это усилие - не только деятельность Бога, но и наше усилие.
Отец Александр напоминал, как легко одному нести раненого, больного и как невозможно - мёртвого.
"Молитва, - говорил он, - нужна не Богу, а нам" - чтоб были мы в своем уме. Ибо, по слову Феодосия Печерского, "придёт враг, чтобы поколебать в человеке словесность".
И как святой скажет: "Не я живу, но живёт во мне Христос", так грешник поражен дьяволом до сокровенной сердцевины своего существа.
Революционеры совершали дело разрушения, уподобясь смерти и сатане.
Есть два лика сатаны: Ариман и Люцифер. Ариман тянет вниз, на землю, заставляя душу человека забыть о ее небесной родине ( "и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя", - поём мы, обращаясь к Богу). Люцифер - князь тьмы воздушной - провоцирует развоплощение, растворение в небытии.
С этим связана ересь манихейства - презрение к плоти. Бог сотворил плотный, весомый, зримый мир. Воплотил в материале. Но это еще не все. Он воплотился Сам и ходил по земле. Дух воплощённый.
Одухотворённая плоть. Плод Духа н Матери-материи.
"Тайна сия велика есть". Тайна по гречески - myste. Мы - участники этой мистерии. Потому и совершаем богослужения, чтим иконы и строим храмы, воплощая Дух, смысл.
Действие творения свободно: отворил, затворил, вытворил, растворил. Свобода амбивалентна.
И если послушание, подражание, соработа Богу-Творцу есть сотворчество с Ним, - бунт есть апатия, лень, неделание, сопротивление Творцу.
Не зря возникла парадигма: "ленивый я лукавый раб".
Первое, что мы узнаём о Боге: "В начале сотворил..." - "Bereshit bara Elohim". Творчество - первый и главный атрибут Бога. Бог есть Дух. Дух творчества.
"Bereshit bara Elohim". Пусть нас не удивляет множественное число (единственное - "Е1" или "Eloha"). В русском переводе далее читаем: "Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему". Множественное число в еврейском тексте Библии соответствует христианскому пониманию Бога как Святой Троицы.
Как мы говорим: "Человек" (Adam), так мы говорим: "Бог" - в единственном числе.
В случае "Elohim" филологически зафиксирован феномен трансперсональности сознания, единодушия
Жажда смерти, стремление ходить по краю пропасти и заглядывать в бездну, свойственное всякому человеку, не исключая и Иисуса Христа в Его человеческом естестве (вспомним искушение прыгнуть с крыла храма), есть томительно-зовущее чувство конца, грядущего перехода в иную бытийственность, в иномерность мира сущего.
Космические полеты - расширение области земли. Небо - за этим пределом, за пределом скорости света. Птолемеев мир кончался за орбитой Урана. Наше небо убегает ввысь - в расширяющейся вселенной.
Остывание небесного огня - замедление скоростей.
Сюжет телеологической эволюции был спародирован марксистскими "законами общественного развития".
Отсюда - мессианство пролетариата. Отсюда - в каннибальская этика революционаризма.
Отец Павел Флоренский рассматривал артефакты культуры, орудия и инструменты как продолжение и транскорпоральное развитие органов человеческого тела, называя это органопроекцией.
Продолжая его мысль, мы можем сказать, что компьютер есть пусть несовершенная, но все же модель интеллекта, сознания, позволяющая судить в какой-то степени приближенности и о самом сознании, в особенности о таком его свойстве, как память. Эта модель особенно впечатляет при рассмотрении компьютерной видеокамеры, способной не только запечатлевать, но и трансформировать видимое и, подобно так называемому механизму человеческой памяти, пускать время созерцания вспять, ускорять его ход, что, как утверждают люди знающие, происходит в сознании человека в его предсмертный миг.
Человек идет на риск, идет навстречу опасности - и это жажда нового, жажда познания, обретения исключительного опыта. Стремление опытным путем познать смерть, вторгнуться в ее пределы, прорвав конечную, данную нам трех-четырехмерность мира, есть проявление пророческого, творческого начала. Здесь Эрос смыкается с Танатасом.
Смерти нет. Но разложение есть.
Отец Александр Мень любил образ подброшенного вверх камня: пока летит - поднимается, остановился - падает на землю, стремительно рушится вниз. Подброшенный камень был для него аллегорией души. Душа обязана трудиться, подниматься неуклонно вверх, расти. За остановкой следует падение, опрокидывание вспять, как у неосторожного скалолаза.
Мы говорим: "Elohim", "Человек", "Adam", "Бог". Жизнь в её проявлениях, Бог в Его проявлениях.
Я никогда не поверю, что нет духовности в расцветшей розе, которая - вся - состоит из живых клеток.
В каждой клетке - жизнь, в каждой - душа.
Всюду мы видим семя и принцип семени: разворачивание, развертывание, развитие, нарастание качественных изменений, рост, трансформацию, метаморфозу, тождество того же и другого. Прозревание, зрение, зрелость. Прозябение. Росток - побег от материнского ствола. Цветенье, плод.
Бог-Творец создал морскую звезду, снежинку и цветок сирени. Он создал птиц, способных летать и петь. Он сотворил человека, способного творить.
Гуляя в райском саду, Бог любовался Своими творениями, шедеврами, созданиями. В незнании человеком добра и зла была высокая мера совершенства, превосходная степень бытийственности, райское блаженство ("блажени нищий духом, яко тех есть Царство Небесное"), детская невинность, наивность, нетронутость тлением искушенности, когда включается время, и за вечность нужно вести жестокую, непрекращающуюся борьбу. Познав добро и зло, человек вступил в опасную игру со шкалой ценностей, где ставкой является жизнь, а победой - бессмертие; где поражение грозит небытием. Такому не место в райском саду. Адаму открылись скалистые горизонты и море, доходящее до неба. Ребенок вырос и вышел из рая в опасный, конкретный, до ужаса реальный мир. В нем не было безмятежности. Это был мир после мятежа - восстания ангелов. Вулканы клокотали памятью катастрофы. В высоких травах бродили чудовищные рептилии.
Созерцая чудовищ, мы понимаем, что это - искаженные тварные формы - следствие катастрофы. Мир антропоморфен; по образу и подобию Божию сотворенный человек прав в своих ужасах и эмпатиях. Мы радуемся красоте божественной радостью, ибо человек есть храм Духа Святого ("часть моя Ты ecи, Господи"). Человек есть мера всех вещей. Мы созерцаем геоцентрический, антропоцентрический, христоцентрический мир.
Страх и отвращение не есть только человеческие реакции отталкивания, чурания опасных, грозных, подозрительных объектов.
Человек поднял факел, и тьма отступила.
Каин убил Авеля из ревности, зависти и мести, ибо жертва Авеля была благоприятна Богу.
Есть отходы, есть брак, неизбежный во всяком творчестве.
Неантропоморфные боги чудовищны и зловещи. С христианской точки зрения это демоны.
И дьявол представлен как рептилия - змей (дракон).
Ангелы-керубы в принципе антропоморфны. Крылья есть знак свободы. Как считал отец Александр Мень, сфинкс - отдыхающий, сложивший крылья
"Поклоняются страшным богам девы-жрицы с эбеновой кожей".
Весёлый сонм антропоморфных олимпийцев - предчувствие (предвестие) Богочеловека.
"В поте лица" - путь искушённого сознания. А здесь возникло понятие греха и раскаяния - 'кошмар всех последующих поколений.
В раю не было творчества.
И мечта о рае и золотом веке по мне сродни инфантильному желанию вернуться в чрево матери.
Адам был послан в опасную экспедицию - как впоследствии Христос - плоть от плоти Адама.
"...Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся Господь и не раскается..."
Страшный, забавный, поучительный сюжет - жизнь всякого человека. Он творит ее в соавторстве с Богом, выбирая из спектра вероятностей один луч.
Мир, лежащий во зле, совершает ракоход - попятное движение. И Господь Вседержитель видится мне Сизифом, вкатывающим камень мироздания на гору времени, Атлантом, держащим небо на своих плечах.
Это мир после катастрофы.
Божий план - наращивание сложности и разнообразия. Задача сатаны - свести бытие к небытию, опрокинуть метаисторию вспять.
Смешно сравнивать себя с Богом. "Иная слава звездам, иная светилам". Но надо правильно и чётко понимать свою человеческую задачу.
Мень смог соединить в себе, в своем лице гениальность и святость, дав мощную культурную парадигму на будущее, на все будущие времена.
Многое осталось внутри. Исихасты-молчальники делали свое дело в тишине. Мы в точности не знаем, что говорил своим ученикам Сергий Радонежский. А слова Серафима Саровского, записанные Мотовиловым, дошли до нас и поражают не только православных христиан, но и антропософов. То, что говорил мне Мень, я помню. Я это складывал в своем сердце.
EOS
По утрам я любуюсь профилем моей жены. Королевский профиль ашкенази.
ОПРАВДАНИЕ БЫТИЯ
Горы, сотворённые Творцом, обнаруживают небрежность Мастера.
Приятно сознавать, что мир - это старый корабль, и ведет его прежний Капитан - Тот, который его и построил.
"У вас же и волосы на голове все сосчитаны".
Мы зачислены в экипаж - сменный, потому что люди умирают и рождаются.
И опошлить, снизить, профанировать этот страшный, таинственный, странный, как деревянная лестница, как чердак и дедушкин сундук, мир - очень и очень трудно. Царь Давид стоит на страже.
Проблем быть не должно. Проблема - нездоровое состояние. Она должна быть уничтожена, снята, преодолена. Проблема - что-то вроде головной боли, дырки в заборе или гвоздя в сапоге. Русская манера - накапливать проблемы и пытаться решить их все одним махом. В Европе привыкли немедленно решать проблемы, а если их много - разгребать, растаскивать по одной.
Предположим, вы спешили и опаздывали, заплатили много денег за такси или отменили важное дело - и пришли к запертым дверям. Вы раздражены? Чего вам стоило придти вовремя? Но - не платите слишком много. Платите ровно столько, сколько это стоит, - и вы не будете разочарованы.
Возлюбите врагов - и борьба приобретет пьянящий сексуальный привкус.
Конца, собственно говоря, нет, не бывает. И смерть - это не конец - ни для самого умершего, ни для его близких. Жизнь продолжается. Мы никогда не можем подвести итог, черту.
У Шекспира - горы трупов - эффектный конец. Но реально жизнь продолжается.
Овладение временем. Время понимается как место. Прошлое - неисчислимое множество застывших моментов (как фотокарточек), ландшафтов. Мы можем посещать исторические эпохи как разные земли.
"В жизни временней..."
"Не остави мене без удела в блаженной вечности. "
Когда в мир проникло зло, включилось время. И этот хронометр будет остановлен в конце времен.
Бесы - фауна ада.
Ад и рай - ландшафты. Духовные ландшафты.
Ангелы - фауна рая: "шестикрилатые животные серафимы".
ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Был, помню, такой сон. Мы с отцом Александром Менем стоим на каменной площадке высоко над морем. Какие-то цветы в гипсовых вазах, пальмы. Море сияет. Отец - в белом подряснике, очень довольный и говорит мне:
- А здорово мы оторвались!
И я так понимаю, что мы находимся в Царстве Небесном, а отрыв - это наша с ним внезапная смерть и тем самым спасение от преследовавших нас врагов.
(Это ещё он был тогда жив.)
А второй сон - уже после его смерти. Я стою во дворе дома в Ереване и вижу, что в подъезд входит отец Александр - в длинном плаще с поднятым воротником, темной широкополой шляпе, с портфелем - пришел кого-то навестить.
Он поднимается по лестнице - я могу видеть сквозь стену это его движение.
А затем - вдруг - на стене, чуть сбоку от лестничного пролета, - на наружной стене - появляется его светящийся, движущийся портрет вполоборота - по пояс.
Он сияет и светится, полыхает пламенем, озаряя все вокруг!
Я падаю на колени, протягиваю к нему руки, кричу:
- Отец, так вы живы?! - и плачу...
ВСТРЕЧА
Максимилиан Волошин рассказывал последней и необычайной встрече с Гумилёвым. В течение жизни они много раз встречались. Но случилось так, что, по весьма деликатному поводу (о котором говорить сейчас излишне), у них возникла ссора, которая привела к дуэли, по счастью, окончившейся без кровопролития. После этого они долгое время не виделись.
И вот однажды Волошин шёл по улице в Феодосии и увидел идущего ему навстречу Гумилёва. Лицо Гумилёва как-то особенно светилось, и весь его облик был радостным.
Волошин, забыв все прежние недоразумения и видя Гумилева в таком хорошем настроении, с открытым сердцем, приветливо направился навстречу ему. Но тот, поравнявшись с Волошиным, вдруг исчез, как призрак.
Волошин отметил у себя дату необычной встречи - это было 24 августа 1921 года - день смерти Гумилёва.
НИТЬ
Мне приснилась русская Америка. Архитектурно она была похожа на древнюю Грецию. Там стояли дворцы с колоннами - это были различные факультеты университета, в котором я преподавал. В одной из аудиторий я оставил свою сумку и не мог вспомнить, где. В ней было что-то очень важное и дорогое для меня. Я искал её всюду и не находил. Возможно, её кто-то украл.
И я услышал голос с небес:
- Если простую житейскую вещь, которая сегодня есть, а завтра нет, так жалко, - кольми паче жену?
Так сказал мне Господь.
КОНЕЦ
Послесловие
Удивительная книга, необычная. Без начала, без конца - да она в этом и не нуждается. Фактически можно начать читать ее с любого места. Но, раз начав, оторваться уже от нее трудно.
Ее фрагментарность - это прозрачная графика, лаконичная, стремительная, летящая какая-то.
Нет тяжеловесных описаний подробностей нашей жизни. Все, что составляет ее суть, схвачено энергично, живо, выразительно. И вот уже - мы, наше время, наша жизнь, такая знакомая и всегда новая.
Тут есть своя философия. Политика. Религия.
Прекрасны строки об отце Александре Мене. Эпизод, несколько брошенных слов - а перед нами Пастырь, Философ, Ученый и Человек. Человечный, во все проникающий, несущий свет, открывающий новое дыхание человек. Может быть, потому и выстояла наша Церковь, сохранились крупицы добра в народе, что были такие, как он. Было к кому потянуться, припасть, напиться воды живой.
Церковное пение - общение простой души с небесами.
Годы застоя. Всем еще памятная житуха наша, высвеченная удивительно точными выразительными отдельными эпизодами. Житуха, ломающая каждого из нас на свой лад. И мы все, каждый на свой лад, противостоящие ей, житухе этой, и приноравливающиеся к ней!
Книга жизни, бытие. Человек ужасен и прекрасен.
И август 1991 года, когда что-то происходило вокруг. Запомнилось странное освещение над Москвой. Был Свет, и с нами был Бог. И все лучшее, что было в Москве, России, потянулось к Белому дому и стало в живые цепи.
Писать об этой книге трудно. Все там свое, знакомое, надоевшее и вечно новое, волнующее.
И о любви... Большая, вечная. "По утрам я любуюсь профилем моей жены"... И - мурашки по спине.
Книга, которую все время сам дописываешь, додумываешь, дополняешь и не можешь от нее отказаться.
Книга-импульс.
М. Плющ
Рецензии
Мира Плющ
ОБ ОДНОЙ КНИГЕ
(попытка рецензии)
Литература - вторая реальность.
Как это трудно и как мощно - суметь выразить любую мысль.
В. Ерохин
Старая дача в Лианозове. Поселок, обреченный на уничтожение, - безжалостно наступал город. Но пока… Пока было замечательное летнее утро, буйствовала густая свежая зелень, а во дворе на лужайке - оживленная толпа знакомых и незнакомых мне людей. Кое-кого я знала: они привели меня сюда, и один из них - Пётр Старчик - диссидент, известный композитор. Были здесь и известные художники со своими картинами и незнакомые мне люди. Кто с музыкальными инструментами, кто с чем. Сначала мы просто бродили по лужайке тут и там, а потом все это общество как-то организовалось и началось осмысленное общение. На сочной свежей траве художники разложили свои картины, и они ожили, заискрились. Хозяин дома - Владимир Ерохин - с саксофоном ходил от картины к картине, и саксофон пел об их прелести, о прелести нашего собрания, нашей готовности понять друг друга.
И мне вдруг тоже так захотелось что-то своё, самое сокровенное, неясное еще мне самой из своих рук бережно переложить в эту прохладную свежую траву, а Володя пусть бы пел об этом на своем саксофоне.
Остановились у картин хозяйки дома - Раисы Гершзон. Тогда, по-моему, это были чуть ли не листки из ученической тетради со странными причудливыми какими-то снами, поражающие строгой отрешенностью, глубиной и высокой простотой.
- Что это? Что вы рисуете? - спросила я.
- Не знаю, сама не знаю, моя мама, она сейчас живет в Израиле, говорит, что я рисую Израиль. Я там никогда не была.
Это потом эти рисунки станут знакомыми, привычными, а сейчас задевали странной прелестью своею.
А потом кто-то играл на альте, и чудные мелодии прямо с нашей лужайки поднимались к небу. П. Старчик мощно пел великих поэтов, а Володя аккомпанировал ему на скрипке и флейте, и была еще общая трапеза, а к вечеру разбрелись все по углам. Все делалось вроде само собой. Никто ничем и никем не руководил.
В одном из уголков дома, утонувшем в сумеречном свете, я услышала молодой энергичный голос, читавший такое! такое! что я остановилась и не могла уже уйти.
Это была явно диссидентская литература, но другая, не та, которую всю я жадно прочитала за эти годы. Она была новая, свежая, другая. Это другое, новое поколение говорило о нашем прошлом, настоящем с блеском, едкой иронией, юмором, мудро и беспощадно.
- Что это? Что вы читали? - спросила я Володю Ерохина, когда чтение кончилось.
- А это я пишу книгу, это главы из книги.
Я никогда не могла забыть этого чтения. В тот день много было интересного. Но Володя, его молодость, энергия, музыкальность и эта книга! И те рисунки на траве! Так тот солнечный день и вломился в нашу жизнь и остался в памяти и живет в ней по сию пору.
Знакомство наше продолжалось. И я иногда решалась спрашивать:
- Ну, как книга?
- Да пишу вот. Но… некогда, …
Ну и вот она, эта книга, роман с теми загадочными, как сама жизнь, рисунками Раисы Гершзон. Владимир Ерохин. "Вожделенное отечество".
Она и сейчас поражает новизной, оригинальностью, свежестью.
Мне кажется, что, вообще, само понятие романа претерпело за это время серьезные изменения.
Ну как сейчас писать романы? Придумывать сюжеты? Но жизнь, и особенно жизнь в нашей стране в ХХ веке полна сюжетов.
Сюжетов, в которых переплетается многое: и любовь, и семейная жизнь, и политика, и КГБ, и психушки, и лагеря, и гражданская война, и стукачество, и коммунисты, коммунисты наивные, честные, чистые и те, которые своими руками душили их, и война, и попытка уничтожить религию и её возрождение, и эта жизнь, о которой пишет автор уже после разоблачений Солженицына, т.е. другая жизнь, но тоже страшная, удушающая, всё разрушающая.
И дело уже не в сюжетах, а в осмыслении их.
В обычном романе читатель погружается в авторское повествование, следит за развитием сюжета, если книга интересная - надолго, если не очень - бросает её.
При чтении этой книги тоже погружаешься в авторское повествование. Но повествование это особого рода. Тут не расслабишься, не нужно вникать в перипетии чужой жизни. Это книга о тебе, о нас, о поворотных моментах в твоей собственной жизни.
Это книга о том, о чём ты сам думал, мучился, да не мог так сжато, точно, метко многое сформулировать.
И теперь мне кажется, что романы сейчас можно писать только так.
Это роман - хроника. Обо всём сразу, о жизни в ХХ веке. Но это не пугающее подробное описание деталей этой жизни, а острое прикосновение к чему-то чрезвычайно важному, когда от этого прикосновения вдруг освещается то один, то другой ключевой момент нашей жизни, дорисовывает важный штрих. Это философские раздумья о нашей жизни.
Книга состоит из множества лаконичных глав и подглав.
Каждая глава - итог, тезис, и элементы бытописания в ней, если таковые есть, - это краткие иллюстрации к четко сформулированному тезису. Или только тезис - краткий итог глубоких раздумий.
Кажется, что главы не связаны друг с другом. Но это только кажется, это единый сплав того, чем мы живем, дышим.
Это те мысли, которыми мы постоянно обмениваемся при встречах, о чем сами долго и мучительно размышляем.
Вот первая фраза романа: "Россия - интересная страна, где, выйдя из дома, вы никогда не уверены, что вернётесь назад".
Нам ли не знать этого? Нам ли не расшифровать этой знаковой фразы историями жизней каждой семьи, не дополнить ее, не приоткрыть тем самым бездну, в которую жутковато заглядывать.
Ведь похоронить в памяти нельзя ничего. Там все, как в колымской мерзлоте, - живо. Память нервов!
Я часто буду цитировать автора, не только для подтверждения своих мыслей, но и для того, чтобы дать возможность читателям почувствовать суровую прелесть авторской речи.
"Древний охотник нарисовал в пещере мамонта... В этом рисунке какой-то давний день вырывается из мертвящего потока времени, чтобы стать принадлежностью дня грядущего".
В этой книге всё так. Каждая глава и главка "воскрешает минувшее в грядущее".
В этом смысле книга трудна и радостна, она требует постоянного сотворчества. Она будит то, что лежит на дне души, заставляет отложить книгу, уйти в свои мысли, и тем дальше и глубже, чем больше вобрал в сердце свое. А потом продолжить неспешное чтение, заложив, чем придется, особо взволновавшие страницы, где живописуется не твоя, другая, но так похожая на твою, жизнь.
Не забыть, отметить хотелось всё, т.е. пересказать всю книгу.
Заложенные в книгу листочки в конце концов мешают книге закрываться, так много их.
Это наша всеобщая биография, книга заставляет сопоставлять, вспоминать, волноваться, и если бы все читательские мысли, вспыхивающие при чтении её, воплотились в реальность, то книга разрослась бы до размеров невероятных.
Автор пишет: "У меня за годы советской власти выработалась хорошая привычка - как можно меньше знать, чтобы случайно под пытками не выдать".
Вот наша жизнь - под пытками, - а чтобы пыток не было, об этом не думалось… Пытки всегда в том или ином виде присутствовали. Но это же и у меня тоже, даже в моем детстве мысли о том же:
…Стали допрашивать первого,
Долго пытали его,
Умер товарищ замученный,
Но не сказал ничего…
Мой детский ужас, нежелание читать этих стихов на каком-то детском празднике, воспоминание о том, как у меня, маленькой, от страха сжималось сердце. А смогу ли я так? А вдруг не смогу? Какие пытки? Кто меня будет пытать? Будут, будут! Никто же не удивляется, читая эти строки. Значит, будут, будут.
Эта книга - послешестидесятые годы. Это новое другое, диссидентство, другое и старое, новый, но все тот же безумный жуткий абсурд другой жизни. Другой новой жизни, куда наше общество продиралось через послевоенные годы в другой, но тоже абсурд, правда, с проблесками чего-то нового в этой жизни. Что-то изменилось. Что же? Может быть, то, что мы уходим от иллюзий, видим все отчетливее, говорим все резче, определеннее, но и безнадежнее. Надежды наши другие, не шестидесятые, а, вернее, это уже освобождение от иллюзий, от надежд.
Надо приспосабливаться к новой жизни и не забивать себе голову очередными иллюзиями. Надо дело делать. В своем мире стараться делать как можно больше добра. Этому учит книга и жизнь автора.
"Как жизнь прожить, исполненную смысла?" - мучается автор и мы с ним.
Жизнь так же дика и абсурдна, но чуть помягче: не к стенке сразу, не в лагерь, а постепенно - на улицу, в котельные на ночные дежурства, в ночные сторожа, но и в психушки. Теперь уж кого куда, а то и за границу.
Автор с грустью отмечает, "что страна глупела на глазах: ненужные никому, уезжали, умирали, уходили в тень ее лучшие умы".
Появлялось ощущение удушья в собственной стране.
Иные ворчали: "Вам родина дала всё".
"Родина, правда, давала многое, требуя взамен одно - живую душу, растя, за отрядом отряд, поколение душителей".
Страшная, вымороченная страна. Возвращаются из лагерей без вины репрессированные, напрасно отсидевшие, но мало в чем разобравшиеся старые строители социализма.
Печален рассказ о Наталии Сац, в театре которой случилось работать автору, отсидевшей десять лет, потерявшей мужа (расстрелян!), выступавшей перед спектаклем с орденом на пышной груди, рассказывавшей детям о синей птице счастья (то ли социалистического, то ли коммунистического).
А тоска сгущается: "Наша жизнь напоминает мне молитву, написанную от руки поверх сборника похабных частушек".
Всё так. Но ширится диссидентское движение, вот уже появились и правила поведения при аресте, при обыске, при допросе. Диссидентская литература заселяет наши подполья. Можно даже выручить свою пишущую машинку из лап КГБ. Можно обдумывать возможность эмиграции. О, нового много! Но все те же кагебешники и стукачи пронизывали все структуры общества, ширился антисемитизм, продолжались "разоблачения" в сферах науки (это главы о социологах).
И среди ада этой жизни, ада тем более страшного, что и адом-то не считался, а воспринимался как наша обычная жизнь, как защита от духовной гибели - поиски пути к Богу.
Ведь мало кто в этой стране впитывал в себя понятие Бога в тепле и уюте отчего дома.
Наш путь был долог и труден и сопровождался он ощущением, что без Бога совсем пропадешь.
Автор рассуждает, что "дети в одиночестве испытывают страх. В детстве всегда должен присутствовать взрослый человек. Для взрослых в роли взрослого выступает Иисус Христос".
А в нашем государственном доме, где всегда разгром, погром, вечная разруха и где есть, по словам автора, только печальная несбытость начал, - глоток свежего воздуха - Новая Деревня, отец А. Мень, его мудрость, его высокая духовность, возможность с его помощью "обрести стержень", не сломаться, не упасть, жить своей жизнью.
Радостное удивление перед мощью этого человека, воскресшая надежда. Христианство. Не то в солнечных лучах, роскошных ризах, в отремонтированных храмах, - а так, как тогда: - свете тихий… Дуновение тепла, неяркий, но стойкий свет Новой деревни. В таких, таких местах возрождалась попранная наша церковь.
Здесь рассказ Ольги Ерохиной о песнопениях в этом храме, это тоже одна из композиционных деталей, когда автор передает слово другому. Этот рассказ - поэма о христианских песнопениях, но не подумайте, что это архиерейский хор, поражающий профессионализмом. Профессионализм замечательная вещь, но в деревенском храме… А в храме была тётя Клава. Старушка, на чьих плечах держалось всё церковное пение, та, что не растеряла ничего из духовных богатств своих, на ком и сейчас ещё кое-где всё и зиждется, потому что, если о церковном пении, то и ноты-то порастеряны часто. А тут знание нутром, сердцем, духом.
"…Без баса, тетя Клава всю глубину звучания брала на себя… Она была - мастер, как редкостный ювелир, или зодчий, или строитель органа - который знает, что делает, и знает, что это другим не обязательно очевидно (высота его искусства), но - знает цену своему умению, и - незримо трудится - не ставя подписи под своим творением".
И что объединяло их - малограмотную старушку и энциклопедически образованного пастыря?
Духовность, верно. Нужда друг в друге. Подпирали один другого. Её перед ним преклонение, - даже испуг - "смотрит своими глазищами…", его понимание того, что она делает, "может делать, власть имеет делать - над душами, над ним, над всеми его детьми - учеными и неучеными, погрязшими и праведными… тем, как она слово выпевает".
Ужасно было чувствовать, что "России больше нет. Есть территория, разорённая до последнего предела, Есть разложившаяся масса дегенератов - всё, что осталось от народа. И кучка интеллигенции - последнее, что здесь есть живого, недобитого. Вся надежда на неё".
"Безнадежность - вот чем стала для автора Москва, а с ней и вся Россия. И казалось, что желать остаться в ней могли лишь те, кто не может уехать, кто прикован к ней галерной цепью, кто встал в этой ужасной гавани на мёртвый якорь, на прикол". И вот появилась возможность уехать. Автор советовался с отцом А. Менем. Отец Александр был против, но как пастырь мудрый понимал, - чтобы найти свой Путь, надо много дорог исходить. И благословил. И началось нечто подобное эмиграции: Франция, Израиль, Америка. Но и это не спасало. "И пришла тоска ночная (и дневная) - зарубежная". И невозможно было перерезать пуповину, связывающую тебя с твоей срамной матерью: а отец Александр? а тетя Клава? а друзья? а прошлая жизнь?.. "А эти", про которых вдруг понял, - "эти, играющие за моей спиной в подкидного дурака, и этот, со странным усердием тренькающий на гитаре, - мой надежный тыл. Это моя страна и мой народ, несмотря на все пошлости Чернышевского. Забывший Бога народ".
И вдруг ощущение того, что без своей безумной родины тоже трудно дышать, что хоть сто раз уже понято, что России больше нет, но она есть, зовёт, цепляется. Возвращение, странное, немотивированное, никому не объяснимое, и себе тоже. И в день приезда страшная весть - убит отец Александр. Вот почему так болело сердце, жгла подошвы чужая земля.
Вот она та связь (мистическая?) матери со своим чадом! Не спасли, не уберегли, ну хоть проститься!
На этом блуждания по свету не окончились, и поэтому было ещё одно возвращение в Россию. Когда? Ну, конечно же, тогда, в дни путча. Такое же странное, вроде бы опять немотивированное, но абсолютно естественное.
Те же узы кровной близости со своим народом. С каким? Да всё с тем же, что играет в подкидного дурака, тренькает на гитаре, забывает Бога. Но есть твой тыл. И опять чувство, что что-то дорогое в опасности, что что-то случилось, чувство, на которое откликаются лучшие и которым пользуются худшие.
Мне жаль тех, кто не видел Москвы в эти дни. Странное, необычное освещение, единение людей. Зло ушло. Это была Пасха, Воскресение, все любили друг друга, все были вместе у Белого Дома, только что народившиеся предприниматели на огромных подносах разносили бутерброды. Преломить хлеб… Воспользовались худшие.
В книге нет слов о любви к родине, но слова-то не всегда и нужны. Вот первая сладость любви к едва познаваемому миру, любви, которая никогда из этого сердца не уйдет: "Я уловил Россию в камнях булыжной мостовой Тамбова, по которым гулко прокатывала телега с молочными бидонами". И точка.
"Живое, живоносное начало древесины встречало меня в скрипке, кисти, подоконниках и крашеных полах". И точка.
"Бытийственность. Я оценил её в Лианозове, где горела печь, и дуб заглядывал в окна корявыми ветками".
Но не только это. Автор - тамбовец, и горечь рассказов о гибели тысяч и тысяч таких же тамбовцев проникала в детское сердце, полное любви к своему краю. Танки, самолеты, дальнобойные пушки с ипритом… По своему народу. "Погибли все. Красные думали: никто и не вспомнит. Над Россиею небо синее. Наша армия в поход далекий шла. Кони сытые бьют копытами. И некому будет отомстить".
Но похоронить в памяти нельзя ничего. Там всё, как в Колымской мерзлоте, живо, мёртво, но живо.
А я? Живя на Украине, я выросла на рассказах (тайных!) о голодоморе. Слово-то какое страшное! Там тогда уничтожали народ таким способом. И всё во имя чего? Ах, да! Счастья!
Сколько у меня воспоминаний про то время!
А ещё в этой книге о репрессиях в виде снов: старые фотографии, лагеря, допросы, пожилой мужчина кормит лошадей виноградом… Это Будённый, и сладкое танго тех жутких лет: "не забывай о юности беспечной…". О какой бесконечной юности пело танго? Всё, всё вместе: забрызганная непросыхающей кровью стенка, свежая трава с пятнами крови, Будённый с лошадью и виноградом, которым в те годы некого было кормить, как только его лошадь, танго. Ну что делать, ну, так оно было.
А я? Есть огромная картина В. Ефанова "Незабываемая встреча", вся правительственная шайка в сборе на встрече с женщинами, жёнами капитанов индустрии, чьих мужей через короткое время уничтожат. Берегу репродукцию, потому что на ней подруга мамы, жена Манаенко, директора металлургического гиганта на Украине. Скоро, скоро их не станет. У каждого свои воспоминания о репрессиях.
За плечами война. Так же лаконично, емко о войне, которая прошлась и по этой семье.
Отец, юный, чуть больше 20 лет тяжко ранен, и если бы не ординарец - грузин, который вплавь дотянул его до берега и на плечах отнес в медсанчасть, погиб бы.
Вот вам тут всё: и война, и дружба народов, не крикливая, не навязанная, вся в декадах от искусства, а просто человеческая любовь, боль за другого, за каждого, за русского, еврея, татарина, грузина.
И девушка в родном городе, отвергшая многих, и выбравшая этого больного и слабого и всю жизнь подпиравшая его плечом. И такая щемящая сыновья боль и любовь в словах об отце. "Когда отец напряженно думал, мучительно билась жилка на правом виске, чуть пониже осколочного ранения, и этот комок умной плоти, рождавшей мысль, поврежденной войной, а потому обречённой на приливы боли, бледно-розовой, чуть прикрытой прядью поседевших волос, трепетной, был живым укором легкомыслию моей жизни".
"Я часто думаю о том, какую роль играет в моей жизни боль. Возможно мои мигрени - стигматы (безусловная, хотя незримая реальность)".
"Отец редко не болел. Это были наши самые счастливые минуты".
"Смерть и боль - архангелы войны".
О миллионы, погибшие за что? За эту нашу жизнь! А наши военнопленные. Военнопленные, брошенные на произвол судьбы, голодные, убежавшие из плена, погибшие после фашистских в наших застенках как предатели. Как же нам не думать, что делать и кто виноват? А "в израильской армии пленному приказано выжить" и вернуться в жизнь, в страну, в семью.
Но уже мини-погром у синагоги в один из еврейских праздников и очень впечатляющей рассказ автора об этом.
Ну и, естественно, размышления интеллигентного человека об антисемитизме всяком, нашем, - бытовом и государственном.
О бытовом антисемитизме что говорить, тут все ясно, как же без него?
"Если б не было жидов, был бы Сталин жив-здоров".
"Если в кране нет воды - значит, выпили жиды".
"Что вы! Не может быть, вы совершенно не похожи на еврея(ку)". Это мы знаем.
В редакции потребовали вычеркнуть, что отец Брежнева прятал евреев от погромов. Редактор строго спросил:
- Я надеюсь, вы русский человек?
Автору было непонятно, почему русский человек должен ненавидеть евреев. Всё требует осмысления.
И "вы хотите забыть это свое прошлое? А прошлое бросается вам в лицо" - Афганистаном.
Афганистан - что-то нелепое, в нелепости своей ужасное, непоправимое, после Афганистана или нельзя жить, или будешь существовать ущербным инвалидом души.
Разве можно описать позор этих лет? Автор этого и не делает. Просто очередная главка. Маленькая. Физически здоровый, вернувшийся из Афганистана солдат совершает такое, от чего волосы встают дыбом, и ты понимаешь, что делает с человеком ад, в который его заталкивают, когда даже физическое тело существует, - а психика - разрушается.
Да разве только Афганистан? Книгу дописывает жизнь: Чечня, "Курск", а Останкинская башня! Эта башня! Могло обойтись хоть тут без жертв; как забыть погибшую там молодую женщину, собиравшуюся в свадебное путешествие? Как можно было затолкать её, уже вырвавшуюся, в горящую башню! Зачем? Что могла она спасти? Что спасли они трое? Опять - в жизни всегда есть место подвигу!?
Чтобы спасти башню и с ней телевидение, сеющее пошлость. Нет, нет, я, верно, не справедлива! И вообще, Господи! Что это со мной? Что я пишу? Причем здесь "Курск", башня? А это книга такая! Она задевает самое сокровенное, самое болезненное, и тогда ты, читатель, включаешься со своими эмоциями, знаниями. И тогда готов вместе с автором, как протопоп Аввакум, как Иван Вышенский поносить, обличать, вопить: "Вы можете сделать со мной всё, что угодно, - я за это ответственности не несу. Я же буду отвечать за то, что я сделаю. И что бы вы ни болтали о благе народа, я знаю: вы - хунта, банда убийц и разбойников, захватившая власть в стране. Вы не Россия в той же мере, в какой не была ею Золотая Орда. Вы погубили мою родину!"
А потом смиряться и не то, что успокаиваться, а прозревать.
Замечательны страницы, где автор пишет о любви (своей и чужой) о поисках любви. Это и юмор, и печаль, и нежность, и тепло благодарности…
А когда пришла та любовь, любовь - судьба, тогда, как всегда, - лаконично и таинственно:
"По утрам я любуюсь профилем моей жены… Королевский профиль ашкенази".
Хорошо!
Книга, кроме глав и главок как-то не специально, но фактически делится на две части. Первая - больше посвящена политическим событиям. Всяким разоблачениям то культа личности, то разгрома талантливейшей группы социологов, то нарастающему отвращению к власть предержащим, нежелание сотрудничать с коммунистами, отрицание этой идеологии, этой жизни, в которую нас загоняли.
И там звучит все это молодо, энергично, задиристо. Там и ненормативную лексику встретишь, и едкий юмор, и сарказм, и готовность, готовность строить новую жизнь, споры с теми, кто был против этого.
Вторая часть книги - это уже зрелые мысли о предназначении человека на земле, о религии, о христианстве, культуре.
"Я ощутил диктат свободы - как боль невыплеснутых слов-снов. И понял, что литература - дело Божие, когда нет других резонов заниматься литературой".
"Христианство внекультурно. Оно вечно юно и несет на себе отблеск алой утренней зари, в отличие от прохладного вечернего золотистого света угасающих культур".
"На нас лежит печать несбывшести. Трагизм реального положения в том, что мы - субъекты той культуры, которой больше нет…"
"Молодые культуры имеют особый пряный аромат, но они лишены гармонии, сладости и полноты. Наши идеалы обращены назад, к той культуре, которая уже умерла".
"Россия - совесть мира. В этом смысл России".
"Культура обретает сладость и полноту, как и плод, достигнув зрелости и сладости. Ни одна из культур не бесконечна, она старится и должна умереть. Ее седина - золото и мед".
Удивительные слова находит автор для многих явлений. Эта часть книги афористична, с этими афоризмами трудно расстаться. Эта книга должна всегда быть рядом.
"Православие фундаментально, консервативно, устойчиво, и поэтому оно - крепость. Но в нем еще есть тайна, которую знали исихасты. И она светилась в глазах Соловьева, Флоренского, Меня".
"Грех - ошибка, неверно выбранный курс".
"Надо жить так метафизически убедительно, чтобы истина этого бытия сияла своей очевидностью".
"Я никогда не поверю, что нет духовности в расцветшей розе, которая - вся - состоит из живых клеток. В каждой клетке - жизнь, в каждой - душа".
"Выбирая между Богом и раем, русский человек выберет Бога".
"Музыка напоминает несказанные глаголы. Живопись открывает язык пространства".
"Земледелец, не связанный с мистикой земли и неба, вырождается в машину, сельскохозяйственную машину. Даже язычество очеловечивало бы их. А ведь были когда-то "хрестьяне".
"Духовный человек должен вспоминать все, что с ним происходило, установить непрерывность, неразрывность сознания".
"Мир есть поэма материи, которую пишет Бог. Единственной, истинной реальностью является сознание. Единственной подлинной реальностью является человек - самосознание, личность, сам в себе и для себя. Он осуществляет миротворение, создает свою действительность. Образ этого - творчество, произведение искусства и ремесла, земледелие, садоводство и мореплавание".
"Попытка коммунистов превратить Я в Мы была регрессом - возвращением к пещерному сознанию".
"Свидетель - тот, кто рассказывает о своем опыте, о том, что он пережил сам. Всякий иной занимается распространением слухов".
"Смешно сравнивать себя с Богом. "Иная слава звездам, иная светилам". Но надо правильно и четко понимать свою человеческую задачу".
"Приятно сознавать, что мир - это старый корабль, и ведет его прежний Капитан. - Тот, Который его и построил. Мы зачислены в экипаж - сменный, потому что люди умирают и рождаются. И опошлить, снизить, профанировать этот страшный, таинственный, странный, как деревянная лестница, как чердак и дедушкин сундук, мир - очень и очень трудно. Царь Давид стоит на страже".
"Конца нет, не бывает. И смерть - это не конец - ни для самого умершего, ни для его близких. Жизнь продолжается. Мы никогда не можем подвести итог, черту".
"Когда в мир проникло зло, включилось время. И этот хронометр будет остановлен в конце времен".
"Я думал о своём народе и о том, что евреи в нём, как золотые нити в граните; было это в храме, где было тихо, тепло и служили панихиду".
"Бог Творец создал морскую звезду, снежинку и цветок сирени. Он создал птиц, способных летать и петь. Он сотворил человека, способного творить".
"В раю не было творчества. И мечта о рае и золотом веке по мне сродни инфантильному желанию вернуться в чрево матери".
"Страшный, забавный, поучительный сюжет - жизнь всякого человека. Он творит её в соавторстве с Богом, выбирая из спектра вероятностей один луч".
"Бесы - фауна ада. Ад и рай - ландшафты. Духовные ландшафты. Ангелы - фауна рая".
"Эмиграция дает метафизический выход - подобно монашеству, предательству и самоубийству. Подобно безумию. Это все уход из жизни, из этой жизни. В сущности - в небытие (для этой жизни). В инобытие".
"Большевики должны уйти. Они должны предстать перед судом народа. Вот только народа, которого уже не осталось. Нужен международный суд типа нюрнбергского. Я предлагаю провести его в Тамбове. Их покаяние - ложь, лицемерие, тактический прием, финт или блеф".
"Бог вменил нам ум, дух, который есть движение, деятельность, действие. Его нормальное состояние - рост, как и всего живого. Когда кончается рост, начинается распад. Это верно и для жизни духа. Бог не меняется - неизменно Его свойство: рост".
"Мы не можем выбросить проявления зла за пределы мира, ибо мир пределов не имеет. Надо найти им соответствующее место".
"Душа обязана трудиться. Как самолет - лететь вперед, чтобы не упасть".
Автору посчастливилось лично знать и отца Александра Меня, и отца Сергия Желудкова, отец Александр Мень был духовным отцом автора, он его и крестил, отец Сергий Желудков помогал автору овладеть искусством церковного пения.
Размышления о них, об их духовном подвиге - лучшие страницы книги, без таких людей нет России, они лучшее, что у нас есть.
Удивительные слова находит автор для них, лучше сказать трудно:
"Нищий, бесхитростный, смиренный отец Сергий держался с необыкновенным и нежным, деликатным и твердым достоинством, поколебать которое было страшно - как спугнуть птицу".
"Человек абсолютной духовной чистоты…противился церковной пошлости. Он охотно общался с неверующими. Для него важно было - во что неверующими".
"В церкви отец Сергий исчерпывался всегда, весь, до дна, и Господь вновь наполнял его душу Духом святым и огнем".
"Человек такой не умирает - смерть им не обладает".
Главы об отце Сергии создают памятник трогательный и мощный русскому Пастырю.
Говоря о своем духовном Отце, автор поражался его необыкновенной молодости души.
"Его службы отличались энергией, силой, легкостью, красотой и простотой".
"Он был, как библейский пророк, усталый, величественный, ироничный".
"Для него не было безвыходных ситуаций".
"Согнуть его было невозможно, только убить".
"Быть священником не было для отца Меня ремеслом или профессией. Это было призвание - как царей призывают на царство".
"Отец Александр смог соединить в своем лице гениальность и святость, дав мощную культурную парадигму на будущее, на все будущие времена".
"Он был ориентирован на вечность. Он был спроецирован на вечность и сам был проекцией вечности сюда, на грешную землю, которую очень любил…"
"Был человек, прошел по земле. И следы его источают тонкий, животворящий аромат".
Каждая из этих главок тема для размышлений, дискуссий.
Я понимаю, что кто-то захочет поспорить со мной, с автором книги, кому-то могут не понравиться рассуждения о государе Николае II, кого-то может шокировать глава об Афганистане, кто-то не согласится с отдельными рассуждениями по разным поводам. Тогда появится еще одна рецензия на эту книгу.
А мне не хочется сейчас говорить о недостатках. Не тот настрой. Да и не вижу я их. Душа моя преисполнена благодарности к автору.
Книга так глубока и интересна, она так далеко уводит от суеты нынешней жизни, она пробуждает столько чувств, что хочется оставаться погруженным в них. Как это радостно, что в наше прагматичное время живет на свете человек, который думает о судьбах нашего мира, о нас с вами, сочиняет музыку, издает журналы, учит детей, пишет книги. Дай ему Бог сил и здоровья достучаться ещё и до наших сердец, а нам подвигнуть себя на прочтение этой удивительной книги.
Новая книга
Газета "Коммерсантъ" № 54 (1457) от 28.03.1998
Опавшие листья Владимира Ерохина
Если большинство воспоминаний, написанных вскоре после октября семнадцатого, рассказывали о положительных качествах утраченного времени, то сейчас мы оказались свидетелями как бы уравновешивающего положение дел процесса: воспоминания о том, как хорошо жилось при большевиках,- примета приподъездных разговоров, а не изданий хоть сколько-нибудь заметного тиража. Книга Владимира Ерохина "Вожделенное отечество" не стала исключением.
Такой патологической ненависти, брезгливости и отвращения к коммунистам и всем делам их вашему рецензенту давно не встречалось. Невозможно не вспомнить один из самых культовых советских фильмов: "Политика царя была трусливая и велоромная" - грамотность изменилась в лучшую сторону, уровень отношения к господствующей власти остался примерно тем же.
Жанр, избранный Ерохиным,- нечто среднее между розановскими "Опавшими листьями" и рассказами-репликами Шкловского (при отсутствии афористичности первого и ударной силы второго),- даёт отличную возможность для воссоздания самых разных фрагментов истории России нашего века, от возвращения Гумилева в Петроград до приезда Стейнбека в Москву, почти в произвольном порядке. Удобство такой манеры подачи материала в том и состоит, что мотивация появления в (весьма объемной, к слову сказать) книге какой-либо истории совершенно не нужна: вспомнилось и рассказалось. Проблема в том, что мотивации этой читателю хочется.
Пожалуй, приятно удивляет, что книга при всём этом почти не эгоцентрична: похвалы, адресуемые автору персонажами (за литературную деятельность, игру на саксофоне, чтение акафистов в церкви и т. д.), не воспринимаются как его самовозвеличение. Да, так получилось, что в своё время учился у лучших социологов, в своё время познакомился с Александром Менем, в своё время... и т. д. Но - возможно, именно в силу этого - описываемое не вызывает ни зависти, ни каких-либо других сильных эмоций. Точно так же, как дворянам в эмиграции неинтересно было читать дневники ровесников (у всех сожгли усадьбы и побили статуи), теперь неинтересно читать воспоминания о жизни в СССР. Все мы "жили тогда на планете другой", и уж если на то пошло, каждый сумеет рассказать детям что-нибудь занятное. По-человечески понятно стремление автора донести ощущение харизмы личностей, с которыми сталкивала жизнь: философа Г. П. Щедровицкого, писателя Е. И. Осетрова, о. Александра Меня (о нём в книге сказано особенно много, проникновенно и тепло),- но какого-то последнего литературного усилия не хватает, чтобы ощутить себя на месте автора, другими словами - живого человека на месте страницы.
Что до нелюбви автора к коммунизму, она настолько велика, что иногда сентенции по этому поводу - как, впрочем, и по другим - даже повторяются (довлатовская заноза?). Претензии к большевикам - не только за то, что принесла революция, но и за пресловутую "Россию, которую мы потеряли" и которая, видимо, как раз и оказывается для Ерохина "вожделенным отечеством". Однако у читателя ощущения этой самой вожделенности не возникает; не возникает и ощущения того, что в это отечество в состоянии попасть сам автор.
НИКОЛАЙ Ъ-СМИРНОВ
Владимир Ерохин. Вожделенное отечество. Роман-хроника. М.: Laterna magica, 1998.
http://krotov.info/lib_sec/06_e/ero/eroh_01.htm
Приходские вести № 6. Январь-февраль 1998
Александр Зорин
АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ
Незадолго до смерти отца Александра Меня Владимир Ерохин сочинил удивительную музыку. Он хотел посвятить её батюшке и привез в Москву 9 сентября 1990 года, в тот самый день... Эта мелодия стала для многих символической. Не случайно вот уже несколько лет её позывные звучат в радиопередаче "Из звукового архива отца Александра".
Музыкант, журналист, давний мой друг, брат по новодеревенскому и космодамианскому приходам, Владимир неожиданно открылся мне как настоящий серьёзный писатель. Он издал книгу "Вожделенное отечество", которую писал, начинал писать, почти не надеясь, что увидит её опубликованной.
Роман-хроника, как определил своё произведение автор, имеет две совместимые проекции: внутреннюю и внешнюю. События, люди, картины видимого мира - проекция внешняя. Она обширна и мозаична. Но почти в каждом фрагменте, в каждом осколке запечатлена отчетливая грань. Ерохин экономит изобразительные средства. Экономия - черта мастера, мыслящего сегодня экологически честно: лишнее - засоряет среду обитания. Вот отточенная до лапидарности миниатюра "Лыжи":
"- Значит, лыжи? - спросил в конце исповеди отец Александр.
- Лыжи, - сокрушённо подтвердил я.
- Вы там погибнете, - сказал он твёрдо".
За тремя строками открывается бездна смысла, который понятен в контексте с другими, соседними миниатюрами, где мысли о России наиболее трагичны и безысходны. Лыжи... то есть навострил лыжи, собрался уезжать, эмигрировать. И уведомляет об этом на исповеди своего духовника. Не совсем уверен в том, что делает, но, вроде бы, отступать некуда. На что священник, прекрасно зная его характер, с беспощадной прямотой припечатывает свой вывод. Интересны их взаимоотношения на исповеди. Священник не дает благословения, не накладывает запрет. Не посягает на его волю. Неразумного, он тычет носом, как котёнка, в продукт его жизнедеятельности. Как будто видит короткую лыжню, которую отсекает шоссе... На противоположной стороне уже никакой лыжни не видно.
Многие миниатюры похожи на стихотворения в прозе. Автору свойственно ассоциативное мышление, близкое поэтическому. Он любит метафору и владеет ею, как хирург скальпелем.
Искусство препарировать необходимо писателю, особенно, если он имеет дело с уродливой действительностью. Ее достаточно много вокруг, внешний план плотно ею заставлен. Более всего искажены лица. Ерохин изображает их то добродушно-весело, то язвительно. Эпоха наложила печать на внешность...
Визуальная хроника сменяется событиями внутренней жизни. Это переживания, рассеянные чувства, мысли врасплох. Фейерверк мыслей, оригинальных или заёмных, но всегда интригующих.
Это не роман в привычном понимании жанра. Здесь нет связного сюжета, нет развития событий, нет линии, соединяющей всех героев. Но есть сюжет личности, её импульсивное, динамичное воплощение. И есть колоритный фон.
Автор иногда говорит о себе в третьем лице, что даёт повод отличать его от главного героя. К тому же, он цитирует Майн Рида: "Не считай автора книги её героем", намекая своему читателю на то же самое. Так художник, работая над автопортретом, обобщает образ, модель которого смотрит на него из зеркала, и не следует думать, что они идентичны. Подобие документальной точности поддерживают подлинные имена некоторых известных людей. Они - ключевые фигуры в книге, по большей части автобиографической. В авторе и герое много схожего, они, может быть, близнецы, и однако есть разница. Я объединил их под инициалами NN.
NN - сын начальника, влиятельного коммуниста в областном городе. Пользуется привилегиями номенклатурной касты, летом отдыхает в Артеке. Обучен с детства музыке, начитан, целеустремлён. Как только вырывается из домашней опеки, видит иллюзорность и пагубность кастовых привилегий. Впрочем, догадывался и раньше. Но теперь, учась в московском Университете и в другом заведении, которое туманно называется Невидимым колледжем, NN окончательно прозревает, понимая, на каком болоте заложен фундамент общественного воспитания. О строителях его точнее не скажешь: "Эти предельно эгоистичные существа наиболее общественны".
Болезненное перерождение совершается, однако, весело, выражено смачно: студенческий юмор неотличим от матросского, эротика обнажена до крайностей, до гениталий.
И все же окончательного перерождения не произошло. Какой-то комплекс вины остался и саднит, как заноза. Нервозная рефлексивность заметна в неокрепшем характере.
Осмыслить всерьёз происходящее можно только опираясь на незыблемые ценности. Бесчисленные петли расставлены повсюду, и совестливому человеку путь открывается единственный - к Богу. Что и случилось с автором "Вожделенного отечества", точнее, с его героем.
Кстати, название книги - очень ёмкое. Словосочетание "вожделенное отечество" взято из православного песнопения по усопшим и подразумевает Царство небесное. Но в современном употреблении глагол вожделеть скорее означает страстное чувственное влечение, которое может вызвать предмет вовсе не возвышенный. Любовь зла, полюбишь и козла! Короче - небесное и земное сомкнулись в названии книги и не разомкнулись на всем её открытом беспокойном пространстве.
Поиск пути привел NN в Пушкино, в Новую Деревню, под покров отца Александра Меня. Но и эта встреча поначалу не принесла утешения. Заоконный мрак всё так же сливается с мраком душевным, с одиночеством, с бестолочью службы в советском учреждении. В такие нахлыни душевной смуты не помогают ни молитва, ни близкие люди, включая рядом бодрствующего на приходе священника, ни Сам Господь Бог. О чём это говорит? О трудности подлинного обращения к Богу, о предельной искренности, не боящейся открыть душу и обнаружить слабость беспомощной веры. О возможном упрёке: мол, какая же это вера, если человек кругом одинок?
Но обретение веры - процесс, протяжённый во времени. Отец Александр, помнится, любил напоминать, что крестившемуся человеку первые десять лет покажутся невыносимо трудными, вторые чуть полегче... То есть обретение веры, длящееся десятилетиями (для человека, а - для человечества?..) чревато срывами, сомнениями. NN именно такой человек, которого Бог очень больно протаскивает сквозь узкие врата, через серьезные испытания. Вспомним евангельского героя - отца бесноватого отрока. На вопрос Иисуса "веруешь ли?" книжник ответил: "Верую, Господи, помоги моему неверию". Это исповедание веры человека, доведённого до отчаяния, но не переступившего его. Оно приемлемо для NN и для того человечества, которое вот уже две тысячи лет предстоит перед Иисусом Христом.
Главное в книге связано с прорастанием зерна. Зёрнышко личности упало в почву, жирно унавоженную и политую человеческой кровью. Оно может захлебнуться в этой хляби.
Одну из главок сопровождает стихотворение Пастернака "Свеча горела на столе". Известные строки простегивают содержание, синхронно с ним не совпадая. Это характерный образчик ерохинского стиля, при котором ассоциативные ходы и перепады не нарушают повествования. Повторю: это прием из поэтического арсенала. Вообще поэтика текста - игра словом, дискретность мысли, афористичность - позволяют считать роман поэмой. Это цельное произведение, составленное из осколков. Собственно, такова и личность героя - раздробленная, силящаяся с Божьей помощью обрести единство и прорасти. Рост осуществим только через творчество. "Нужна артикуляция, выговаривание как поступок и твердыня. Несказанное грешит небытием".
Жизнь приблизила его к нескольким выдающимся людям; не потому ли они названы подлинными именами, что их уже нет в живых? Фигура отца Александра Меня удалась более, чем другие. Наблюдения автора и высказывания самого Меня - бесценны. Они пополнят житийный фонд этого святого, казнённого безбожной Россией. Ерохин назвал главное, что притягивает нас в этом человеке: "Мень смог соединить в себе, в своем лице гениальность и святость, дав мощную культурную парадигму на будущее, на все будущие времена".
Книга изящно и оригинально иллюстрирована Раисой Гершзон. "Вожделенное отечество" простирается в свободной композиции, удержать которую может только чувство меры. Мне кажется, оно иногда изменяет автору. В начале и в конце книги фрагменты хаотически пестрят и движутся по инерции в виде необязательного балласта.
Матросский юмор не всегда уместен, порой юморист явно пересаливает...
Есть досадные ошибки. Например, день смерти Ленина и день рождения Меня не совпадают вопреки утверждению Ерохина. Вождь помер 21 января, а Мень родился 22.
Гроб с Брежневым грохнулся не об катафалк, а об землю в могиле. Вся Россия, глядевшая тогда в телевизор, это видела и слышала.
Философ Николай Фёдоров и Константин Циолковский не могли переговариваться, сидя "за палисандровым столиком" в библиотеке. Они не были лично знакомы. Мысль о том, что земля - это колыбель человечества, "но нельзя вечно жить в колыбели", принадлежит Циолковскому, а не Фёдорову.
И ещё одна странная деталь. Непонятно, почему мелькает там и сям печально известный как сталинист некий член Союза писателей ФЧ. Его мелькание никак не обусловлено, оно из числа досадных мелочей, от которых рябит в глазах.
Но это всё отходы большого (в книге 500 страниц) производства, легко и механически устраняемые. Они не искажают лица, не обедняют автопортрета, который состоялся благодаря двум выполненным условиям, заявленным в начале книги: "Если быть искренним и бесстрашным, тогда получится хороший автопортрет".
ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ ТОРХОВСКОЙ
Добрый вечер, дорогой Володя!
Пишу "дорогой", т.к. Вы действительно стали для меня таким за время чтения Вашей книги. Я её перекачала себе на электронную книгу, всюду носила её с собой (читая больше в метро) и жила с ней (в ней) довольно долго. Саше я кое-что из неё читала вслух - он к компьютерному чтению не приспособлен.
Очень она меня задела за живое, хотя впечатления довольно противоречивые. Я вообще довольно консервативна в смысле восприятия, и сам жанр книги мне был довольно трудноват - отдельные, очень образные мазки, иногда даже не связанные друг с другом. Казалось иногда, что это как бы яркие, интересные заготовки для чего-то будущего.И только в конце, когда всё прочла, создалась единая картина.
Из всего - особенно из-за ненависти ко всему советскому, а иногда и постсоветскому - я ещё раз убеждаюсь, что страна наша - как некая многослойная структура, где обитатели разных слоёв (по крайней мере, в Союзе) жили в разных измерениях, не имея представления о том, что делается в других слоях - по крайней мере, наше поколение. Я понимаю, что, родившись Тамбове и зная, что там произошло, Вы с самого детства видели и знали всю эту оборотную сторону (о чём мы понятия не имели). У меня же - Вы сейчас меня за это запрезираете - отношение к окружающему было довольно благодушное. Где-то в 50-х мама моя предостерегала меня, говоря, что в любой компании могут быть "уши", хоть я этому не верила. Среди моих знакомых не было ни детей репрессированных, ни диссидентов, и я уже потом обо всём этом узнала. С ранней юности я выбрала для себя путь в естественные науки, в биохимию. А науке всё равно, кто находится у власти, даже наоборот - в ненавидимые Вами годы наука в стране ценилась гораздо больше, чем сейчас. И мы, научная молодёжь 70-х (т.н. "физики"), жили вполне интересно. Саша мой, как художник, конечно больше на своей шкуре испытал "радостей". Но - прошу прощенья - я отвлеклась.
Действительно, Вы как журналист видели больше, не замыкались в узком мире, и Вы совершенно правы. Я абсолютно согласна с тем, что у нас было и есть куча нелепостей, несуразностей и всякой дряни, но, честно говоря, общий тон такой ненависти и ярости в Вашей книге меня несколько шокировал - тем более на фоне христианства, зовущего к терпимости (что, наверное, было у о. Александра). Даже Горький у Вас маразматиком стал - только за обласканность властью. Но зато, с другой стороны - у Вас такие яркие, образные сценки тех или иных ситуаций, так и видишь описанных Вами персонажей! А отдельные Ваши мысли-афоризмы, которые Вы даете просто сами по себе, одной фразой! В них столько глубины, знаний и вообще всего! Я хотела кое-что просто выписать для себя, сохранить, запомнить (моя эл. книга не позволяет легко листать страницы, думала - потом вернусь; а тут в послесловии М.Плющ как раз это и сделала). Вот благодаря ним я и чувствую "родственность" с Вами, кое-что прочла Саше. Он тоже очень хорошо воспринял.
От него Вам большой привет. И Рае тоже - от нас обоих.
Татьяна