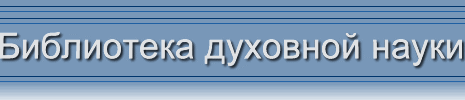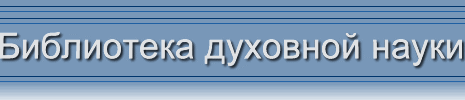пер. с нем. К. А. Свасьяна
Ничто не будоражит мир и не повергает мир в смятение, когда философы умирают в Цюрихе. 17 марта 1917 года в Цюрихе скончался Франц Брентано. В то время мир был настолько погружен в злобу дня - когда как раз из Цюриха Ленин под покровительством Людендорфа в знаменитом запломбированном вагоне въехал прямо в самое пекло мировой истории, - что интересу, вызванному смертью крупного философа, было воздано должное простым сообщением агентства прессы. При этом Брентано был, наряду с прочими преимуществами, тем мыслителем, значительность которого лежит в не имеющем себе равных интимном знании отца западной научной философии, Аристотеля. Связь Брентано с мастером Аристотелем выдерживает сравнение разве что только с осведомленностью в Аристотеле Фомы Аквинского, на которой покоится так много «западных» надежд.
В общем смерть философа не представляется фактором, имеющим какое-либо значение для мирового свершения. Философы сами отчасти повинны в этом, поскольку им до сих пор не удалось разобраться, что же фактически означает человеческая смерть в материальном обиходе вселенной. Постоянство энергии и вещества во вселенной кажется гарантированным - причем таким образом, что для энергии философской мысли в мире, по сути, не остается никакого места. Похоже, материальный мировой процесс и впрямь способен обходиться без энергий, порождаемых человеческим внутренним миром. Правда, у современных физиков их атомы в утонченном лабораторном эксперименте рассеиваются до как бы «духовных» сущностей; нечто подобное происходит и при исследовании вещеподобных свойств света физики - и физик, не лишенный философской осмотрительности, вынужден постулировать полумифический «эфир» физики в качестве «субъективного эфира», а этот последний ставить в зависимость от акта научного познания, субъект которого не «система отношений», а как раз реальный человек, - так что трезвое и строгое исследование субстанции мира шаг за шагом начинает осознавать сомнительность, лежащую в устранении мыслительно-духовного элемента из мировой реальности.
Старый Аристотель, еще раз по-человечески заинтересовавший нас через Франца Брентано, созерцал, будучи греком, «материю» и «форму» мира и воздвиг на этом фундаменте возвышенное учение о духе. Странным в аристотелевском учении о Божьем духе представляется нам, сегодняшним, что вечному духу неведома в отношении мировой реальности никакая другая деятельность, кроме чисто наблюдательской. Не то, чтобы мы не знали, насколько глубочайшее содержание мира способно открыться иной vita contemplativa; и тем не менее мы исходим из того, что современному человеку контемпляция дана лишь в сочетании с наибольшей жизненной активностью. Мирное внутреннее созерцание само по себе не может быть нашей заботой, ибо как в самом деле удалось бы нам узнать хотя бы самих себя без общения с - другими. Странным для нас образом Аристотель допускает состояние бездейственного созерцания и для духовной жизни после смерти. Духу после отпадения тела он может примыслить только такое существование, в котором дух вечно оглядывается на свои былые деяния - в абсолютной пассивности чисто теоретического наблюдения. Философское духоучение Аристотеля легло в основание богословско-христианских учений вплоть до сегодняшнего дня. Христианские философы не произвели никаких новых идей. Задание: довести духовную мыслительную потенцию до опыта просветления из центра христианских представлений, из силы действия смерти на Голгофе, было оставлено ими вне поля зрения.
Но разве не могла бы и сила действия смерти иметь значение для космоса философских мыслей, возведением которого поначалу были заняты греки? Приличествовало ли смерти быть с бесхитростной старательностью вогнанной в миф, надежно управляемый церквами? Отчего вопросу: «Какое значение имеет сила действия смерти того или иного философа для космического хозяйства мира?» не была сообщена сила продуктивности? Если мысли живущих действенны не непосредственно в смысле космической субстанциальности, то, может статься, они в тем большей степени являются таковыми как плод жизни ушедших, мертвых. Жизненный плод не выпадает из целого, он должен и дальше - созидающе, как, впрочем, и разрушительно - действовать в целом. Вопрос: «Что значит смерть философа?» не есть академический вопрос. Правда, мы не привыкли ориентировать наше понимание мира людей по силовым центрам, образуемым умершими мыслителями. Нашему пониманию истории не известно ничего в этом роде. Мы справляемся о значительных исторических датах, скажем, Версальском мире или рождении атомной бомбы, не как в то же время и о годовщинах памяти философов. Подобный метод мог бы привести к кажущимся абсурдными и пугающим аспектам...
Вот один из таких аспектов, некое поистине тревожащее видение, данное в одной лекции Рудольфа Штейнера, в 1919 году: «Это больше, чем просто видение, когда говорится следующее: пусть представят себе содержание гегелевской философии вступающим в мир, работающим в своей чисто логической субстанциальности как своего рода схема духа, своего рода эфирное тело. Если представить себе, как этот призрак проносится над миром, сметая всё со своего пути, то можно будет получить прообраз того, что за последние четыре-пять лет физически выступило как европейская катастрофа мировой войны. Нужно, конечно, обладать мужеством, чтобы всматриваться в эти духовные связи, иначе нельзя будет вообще ничего понять в том, что происходит в настоящее время. Людям современности так хочется поудобнее приходить к духовности».
Тем самым, похоже, означена возможность, что человеческие мысли - мысли ушедших - где-то проявляют свое реальное космическое настоящее. Что за необыкновенное представление! Мы будем энергично отгонять опасные ассоциации, готовые всплыть сию минуту. Всё в нас противится тому, чтобы увидеть благородного Брентано входящим как бы в качестве попутчика Ленина в гущу русской революции. Пусть в затаенных подпочвах московской революции диалектическое гегельянство и пузырилось волнением и невываренностью аристотелевского наследия; пусть Франц Брентано, как философский революционер, и снял с себя сутану римского священника во имя аристотелевского наследия; пусть представление о том, что действие плода жизни носит объективный характер, и не кажется просто абсурдным, - но всё же поистине путающей была бы мысль, что объективный плод жизни некой ставшей духом персоны имеет для мирового хозяйства совершенно иное значение, чем для самой персоны.
Следовало бы прийти к устойчивым представлениям о присутствии Св. Духа, созидающего мир в настоящем. Где же встречаем мы философа «настоящего»? Его гражданское имя и титул не относятся к делу. Мы будем держаться его книги-дозора «Настоящее. Критическая этика». Ибо если привычные условности наших представлений способны видоизменяться, если нам под силу созерцательные представления о том, как действуют духи умерших философов в настоящем, то нам понадобился бы первым делом некий страж порога. Свою вахтенную службу он должен был бы нести по обеим сторонам: предохраняя от музейных назойливостей устаревшей мифологии, рассказывающей о сверхчувственном мире старые богословские небылицы, и от опрометчивого философского высокомерия, полагающего, что оно способно с легкостью унять и понять дух становления.
Надо посмотреть еще, способны ли мы с нашими общепринятыми понятиями об ИСТОРИИ устоять перед критическим стражем «Настоящего», - раз уж мы склонны считать, что «исторические законы», хранимые нами в памяти, имеют власть и над настоящим. Возьмем за исходный пункт расхожие представления о нашей швейцарской истории: наши предки, мужи, связавшие себя клятвой на Рютли, суть творцы Конфедерации. Мы, сегодняшние, углубляемся в исторические деяния наших предков. На героях истории воспитываемся мы к правильной жизни властоящем. Непрерывность нашей связи принесшими клятву предками кажется совершенно очевидной, наша жизнь в настоящем есть некоторым образом постоянно повторяющаяся активизация силы битв при Моргартене, Земпахе, Санкт Якобе и т. д. Отмечая памятные празднества (например, в 1944 году чествование битвы при Санкт - Якобе на Бирсе 1444 года), мы воспроизводим некий лежащий в прошлом оригинал. Так и воспроизвели мы в 1944 году старый, 500-летней давности, оригинал события у Санкт Якоба на Бирсе. И случись, что нам при подобной привычной процедуре взбрело бы в голову быть собственными критическими зрителями, мы бы без труда заметили, что наша репродукция преследует вполне определенную цель. Мы преследуем цель внушить себе, будто налицо некая непрерывность, некий прямой переход от события 1444 года в наше собственное настоящее. Носителем этой непрерывности был бы тогда, скажем, «клятвенный союз» или «историческая задача нашего народа». Но если ум сохранил еще живость, нам придется усомниться в этой измышленной непрерывности. Как раз относительно события у Санкт Якоба на Бирсе, где ослушание недисциплинированных солдат спровоцировало положительный для наших предков эффект (который мы празднуем), мы замечаем, что допущение некой действующей и служащей образцом непрерывности сопряжено с немалыми неудобствами риска: ведь не было бы ничего нелогичного в том, если сегодняшние саботажники категорического приказа сотоварищей клятве, а значит, граждански абсолютно ненадежные граждане Швейцарской Конфедерации считались бы подлинным повторением и воспроизведением оригинала 1444 года…
Будем же дорожить справляющей празднества популярной философией истории - и не упускать при этом из виду, что наверху в университете философской совести «Настоящего» подобает самым недоверчивым образом отнестись к историческим грезам низов. Может, - это просто случай - я не знаю, - что при наших гельветических празднествах «критическая этика» не играет никакой роли. Мы воспеваем вахту на Готарде. При желании можно знать, что цюрихская «критическая этика» -это нечто вроде гранитного Санкт Готарда в царстве западной философии - на котором расходятся духовные потоки мира. Lasciate og-ni speranza! 1 - вот гранитный тезис цюрихского философа. Уверенность вспоминающих, что вспомненные репродукции исторических картин прошлого гарантируют-де непрерывность связи с действием в «настоящем», является не чем иным, как просвещенным самообманом. Это всего лишь высокомерное допущение вспоминающих, будто им отведено особое место в сердце Господина истории. Герои и вожди, как олицетворенная потенция памяти народов, не являются делегированными осуществителями мировой воли, они - грезящие. Не существует никакой идентичности действования между деяниями мнимых вождей и волею Творца; между ними существует соотношение прерывности. Из познания прерывности философ-этик «Настоящего» приходит к вопросу о действительном настоящем, которое больше, чем греза. Те, кто делает историю, не являются карманным изданием Творца и Господина мировой истории. Опасно обращаться к Богу на «Я». Понимание мира я из высокомерного нутряного Я порождает самое большее, теоретическую истину как одноголосную научную систему воспоминаний. Но дело идет о большем, чем истина, дело идет о действительности. Действительность же свершается в ограничиваемо Я снаружи. Претензия другого, другого человека - вот единственное место, где мы переживаем ограничение и тем самым действительность. Это место есть лишенная иллюзий человеческая -повседневность. В претензии другого человека нам - извне - выходит навстречу действительный Бог. Гризебаховское различение «внутреннего» и «внешнего» эпохально. Действительность - это не «истина», претворенная нами в жизнь (великая иллюзия церквей и государств); нельзя, основываясь на истине, интеллигентно выдумывать или даже наперед предсказывать действительность. Действительность существует лишь как случайность извне. Гризебах отправляется от веры и понимает проблему свершающейся истории, или «настоящего», как этик, его вопрос - вопрос об этической действительности. Здесь действует всё еще позднее воспоминание об Израиле: «Не сотвори себе кумира». Но те, кому выпало созерцать, смогут вопрошать действительное в истории не иначе, как являющее себя «прекрасное». О прекрасном, как некоем превосходящем себя самое истинном, можно узнать следующее: прекрасное, выступающее извне как случай, не есть нечто повторенное или вспомненное. Для появления прекрасного необходимо, чтобы оно возникало спонтанно, в чистой сиюминутности настоящего, как абсолютно новое, словно бы из ничто. Прекрасное - это в высшей степени особенный и ни с чем не сравнимый вид бытия. Прекрасное обладает неоспоримым, как бы божественным свойством: оно невежливо. Если я задаю какому-нибудь произведению прекрасного философский вопрос об истине, то есть, если я спрашиваю: «что это такое?» или «что здесь изображено?», то мне достается от бытия прекрасного, образно говоря, оплеуха. Здесь не существует вообще никаких вопросов, которые могли бы быть поставлены. Здесь - созерцается. Ответ на каждый возможный вопрос просто предвосхищен в непосредственном созерцании; он не поддается интеллектуалисти-ческой мысли. Бытие прекрасного невежливо, оно без обиняков перебивает меня, когда я ставлю ему вопрос. Многое и непривычное - также и в истории - может оказаться материалом являющегося прекрасного. Даже атомная бомба могла бы быть поводом для появления прекрасного...
Нам было бы в самый раз извиниться перед современными эстетиками за то, что мы так беспечно и оптимистично пользуемся именем и понятием прекрасного. Эти последние, с тех пор как одна современная эстетика приняла «феноменологическую» ориентацию, как раз и вычеркнули имя прекрасного из своего словаря. Подобно тому как существует некая современная «психология без души», нынче существует и некая современная эстетика без прекрасного. Причины лежат как на ладони. Также и эти эстетики, подобно этику Гризебаху, повязаны великим испугом перед самонадеянностью философии Я, идентифицирующей свой субъект с Мировым Духом. И вот же из испуга они впадают теперь - в реакцию. Франц Брентано наводит иллюзорные мосты для философов. Теперь уже не задаются вопросом: «Какими творческими деяниями становится тот или иной предмет прекрасным?» Ведь всё, что «делается», исполнено богопротивных опасностей. Опасно выведывать прекрасное в человеческих или божественных делах. «Содеянное», «произведенное» - это всегда нечистое, поддельное, деляческое. Ergo, эстетически возвышенное не имеет вообще ничего общего с произведением искусства. Так трусливо отделываются от многозначительного вопроса о творце. «Феноменолог» - это просто чистое созерцательное сознание. Сообразно и увиденное им есть не что иное, как повторяемое разглядывание старых представлений. Поистине лихое предприятие: выдворять прекрасное из эстетики. Остается принять эту эстетику к сведению и - понять.
Но, может, следовало бы всё-таки научиться понимать под всем, что «делается» и в более высоком смысле «созидается», некую приимчивость, где, с взятием на себя высших ответственностей, дающим оказывается «реальное» самого мира. Мы дошли до черты, где всё упирается в вопрос, способны ли наши старые представления о духовном обиходе мира выдержать ревизию и дать пополнить себя новыми. На этой черте воздадим же благодарность философу-этику «Настоящего» за то, что он в час сумерек уходящего дня взял на себя должность бодрствующего стража, удерживая нас от легкого высокомерия и обязывая нас к серьезности новых познавательных вопросов.
Эберхард Гризебах, ординарный профессор философского факультета Цюрихского Университета, неожиданно скончался 17 июля 1945 года в Цюрихе. Газета «Вельтвохе» написала в этой связи в заметке, озаглавленной Вельтвенде2: «17 июля 1945 года останется достопамятной датой в истории человечества. В этот день в пустыне Нью-Мехико была взорвана первая атомная бомба. Она была подвешена к стальной башне. Когда она взорвалась, вспыхнула мощная белая молния, затмившая солнечный свет. Башня распылилась в газ, даже на расстоянии 300 километров силою атмосферного давления были повреждены дома и сплющены окна. Испытание действием произошло 6 августа 1945 года, и таким образом тайное стало явным. В этот день были сброшены атомные бомбы на несчастный японский город Хиросиму. По мнению ученых специалистов от города с его 300 000 жителей не должно было остаться и следа...»
Примечания: 1. Оставьте всякую надежду (итал.).
2. Вельтвохе - мир за неделю, вельтвенде - мир на переломе (прим. пер.).