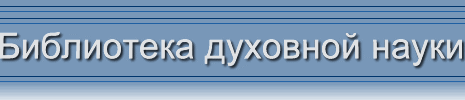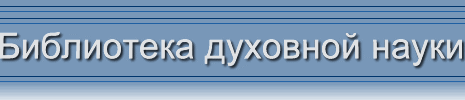К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
Памяти Григория Забельшанского
Римский субстрат европейской культуры обнаруживается в России с тех пор, как волей Петра Великого она была введена в фарватер европейского культурного потока. Россия облачалась зримо в римские одежды: русский царь становился императором, царство – империей, новая столица – Градом святого Петра подобно городу с апостольской кафедрой, Риму. Совершалось всё это по воле переимчивого государя, но время шло, и чем дальше шло время, тем явственнее обнаруживалось нечто такое, чего нельзя перенять, что в русском образованном классе всё неуклоннее заявляет себя изнутри.
В стихотворении 1815 г. «К Лицинию» юный Пушкин уверенно говорит о самом себе:
Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода,
Во мне не дремлет дух великого народа.
Поэтическое исповедание юного лицеиста может быть прочитано в контексте эпохи, наполненной римскими реминисценциями, но нельзя утверждать, что оно взято извне. Пушкин не исповедует дух своей эпохи, он исповедует тот дух, который она отразила, и знает, что он живёт в нём. Быть римлянином во все времена значило быть республиканцем по убеждению и противником монархии. Греция дала миру демократию афинского образца, но республиканский строй как система политических учреждений гражданского общества, предотвращавших концентрацию власти в одних руках, вырос – на демократической основе, правда, суженной со стороны аристократического сената, – в Риме. Рим вошёл в мировую историю как создатель общественного строя, стоявшего на страже гражданских свобод
Пушкину было 16 лет, когда были написаны эти строки: «Я сердцем римлянин…». Но вот совсем не молодой человек, император Николай I в 1841 г. в откровенную минуту говорит почти то же самое, что и лицеист Пушкин, хоть и другими словами: «…по своему убеждению я республиканец, – признавался Николай I в узком придворном кругу. – Монарх я только по призванию» [1]. Да и бабка его, императрица Екатерина II могла позволить себе в расхождении со своим монархическим статусом высказывание в том же духе. В письме к многолетнему своему корреспонденту в Европе барону Гримму она в 1776 году писала: «Я знаю, отчего вы так много обо мне думали, когда были в Риме: вы там нашли так мало древних римлян, что тогда вы стали припоминать, у кого более всех истинно республиканская душа. Случайно оказалось, что это у меня» [2] Императрица несла в себе также республиканский заряд. Идею свободной гражданственности как неоспоримую норму она, как и её державный внук, молчаливо исповедовала в душе, но в принципах своего правления от неё отступала в соответствии с установкой европейских монархов XVIII века: всё для народа, ничего при помощи народа. Выйти за пределы возможного они не могли себе позволить по обстоятельствам времени. Гражданское общество должно было вызревать под умелым руководством постепенно. Революция конца XVIII века во Франции и европейские революции первой половины XIX века показали, что на Западе монархии уже отставали от запросов времени. Но движение в направлении гражданских свобод не совершается в мире равномерно, а России отведено место в арьергарде мирового процесса.
На жизненном пути Пушкина этапное значение имела написанная им в конце 1817 года ода «Вольность». Она сразу же разошлась во множестве списков и принесла поэту широкую известность в обществе и немилость правительства, обернувшуюся шестилетней ссылкой. Пушкин в 1817 г. только что вышел из лицея. На пороге новой жизни, мира открытых возможностей он настроен решительно: он хочет определиться не во внешнем смысле только (в вопросе о выборе службы от него мало что зависит – он приписан был к коллегии иностранных дел), но во внутреннем. Он намерен отойти от элегически-мечтательного строя своих прежних стихов, перейти к мужественному строю стихотворений. Об этой смене настроений говорит он во вступительном восьмистишии оды:
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру –
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
Блуждающий его взгляд углубляется в пространство поэзии, с тем чтобы, напав на нужный след, выйти на верный путь. Он видит уже – во втором восьмистишии – своего предшественника на этом пути и обращается к вдохновлявшей подразумеваемого поэта музе:
Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Восемнадцатилетний поэт хочет проследовать за избранным в образцы поэтом в царство гражданской поэзии.
Содержание этой второй строфы оды вызывает ряд трудно разрешимых вопросов. Вопросы эти занимали несколько поколений пушкинистов. На след какого именно поэта просит Пушкин направить его музу, вдохновлявшую того, кому он хочет следовать? Если он просит навести его на этот след, в то время как сам поэт и поэтический строй его стихов ему известны, то, значит, след поэта всё же каким-то образом затерялся? В таком случае, что известно Пушкину об этом поэте? И среди каких это «славных бед», наконец, слагал тот, оставив прежние свои, элегические по настроению гимны? Так или иначе, поэт этот должен быть на виду, и не у одного Пушкина, – и всё же след, по которому Пушкин хочет пройти, ему не вполне виден. Открыть след поэта, за которым он уже готов идти, может помочь лишь муза, вдохновлявшая того, и её-то призывает Пушкин на помощь.
Внимание исследователей данной строфы пушкинской оды сосредоточилось на единственной примете неизвестного поэта, которую Пушкин указал в начале строфы, – Пушкин называет его «Галлом». Исследователи исходили из того молчаливого и не вызывавшего сомнения допущения, что под этим «Галлом» Пушкин разумел некоего французского поэта (притом поэта околореволюционной поры), так как французов в его время «высоким штилем» именовали галлами; с прописной же буквы слово «Галл» написано было Пушкиным в соответствии с нормой правописания, принятой в его время и сохранявшейся весь XIX век: наименования всякого народа, этнонимы приводились на письме и в печати с прописной (заглавной) буквы наравне с именами собственными.
; Вопрос о том, что за «Галлом» в пушкинской оде может таиться личность, известная в истории поэзии под этим именем, в литературе, насколько нам известно, никогда не поднимался. Исследовательская мысль вращалась в кругу имён французских поэтов-современников Пушкина, однако к удовлетворительному результату усилия, предпринятые исследователями в этом направлении, не привели. Считающийся более вероятным, чем остальные, прототипом «Галла» Андре Шенье был признан таковым с оговорками и явной натяжкой [3] Прочитанное же как имя поэта, Пушкину-лицеисту известного, «Галл» переводит всю проблематику в совершенно иной временной пласт и насыщает её соответствующими коннотациями. Этим «Галлом» мог бы быть Гай Корнелий Галл, римский поэт I века до н.э., последнего века Республики.
Это имя Пушкин должен был слышать в Лицее в курсе латинской словесности, читанном профессором Н.Ф.Кошанским. Кошанский пользовался компендиумом римской литературы немецкого филолога Эшенбурга, который он издал в своём переводе под названием «Ручная книга древней классической словесности. Собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н.Кошанским» в 1816 г. Одна из статей в нём посвящена римскому Галлу. Даже если Пушкин и не был особенно усердным слушателем лекций лицейских своих профессоров, он всё же, как видно из стихотворения 1815 года, был отзывчив на римскую тематику, а история Галла, не лишённая трагизма, не могла пройти мимо внимания впечатлительного лицеиста и не оставить в нём след.
Галл – фигура переходной эпохи. Это было время глубочайшего кризиса всей системы человеческих отношений, действовавшей до тех пор в Древнем Риме, время, когда набирает силу личность в римской жизни. Личность римского гражданина стремительно высвобождалась тогда из своей поглощённости гражданским коллективом. Вестником этого процесса стали гражданские войны, разрушавшие старые связи внутри сплочённой римской общины и подводившие прямо к режиму личной власти – сначала Цезаря, после него Августа, создателей новой политического строя, пришедшего на смену республике. Ранее римлянин как гражданин получал всю свою силу от коллектива, неотторжимым членом которого он был и чувствовал себя таковым. Теперь он чувствовал себя уже в своей отдельности, но также открывал для себя ценность отдельного этого бытия. Вокруг всего этого как вокруг незримой оси идёт борьба в Риме на исходе Республики, ведутся войны, выстраиваются отношения между людьми на личной основе, а в римской поэзии начинает звучать небывалый личный мотив. Всё это как в фокусе сошлось в личности Гая Корнелия Галла, видного поэта, воина и заметной политической фигуры в одном лице
Галл считается родоначальником римской элегии как способа выражения личных чувств в поэзии. В элегии римская поэзия сделала шаг от размеренного гексаметра, от щестистопного стиха к усечённой пятистопной строке. Для слуха, привычного к гексаметру, выпадение шестой стопы во второй строке дистиха создавало зияние, в которое устремлялось сдерживаемое гексаметром первой строки чувство. В этом была большая новизна, и Галл, заговоривший о муках и счастье любви, повёл за собой сверстников-поэтов, отдававших ему безусловное первенство. Галл воспевал свою возлюбленную Ликориду, по прозванию Citeris от острова в Эгейском море с храмом, посвящённым богине любви Афродите. Пушкин в первой строфе оды, видимо, помнил об этом, дистанцируясь в связи с новыми своими задачами от «Цитеры слабой царицы» как олицетворения поэзии расслабляющего чувства.
Оставил ли Галл стихи во время войн, в которых участвовал, сведений об этом нет. Но Галл был поэтом по призванию и должен был оставаться им и в военное время, а в военных действиях бывают и передышки. Настроения, питавшие сочинение элегий в мирное время, сменялись, должно быть, на совсем иные, героические, когда 25-летний Галл с головой окунулся в гражданскую войну, вспыхнувшую в очередной раз в Риме после убийства Цезаря в 44 г. до н.э. Боевой дух, «упоение в бою», по выражению Пушкина, состоит в родстве с вдохновением. То и другое питали в римскую эпоху силы Марса, стоявшего в знаке Овна как в «своём доме». Воинственный этос придавал конфигурацию всей этой культуре, а направленные внутрь силы Марса находили выражение через гортань в речи. Пушкин в оде фиксирует перелом в творчестве своего «Галла», слагающего гимны теперь «средь славных бед», а кроме военных действий «славными бедами» едва ли может быть названо что-либо иное.
Стихи Галла по причинам, не зависевшим от их художественного достоинства, не сохранились. До нас дошли лишь фрагменты его стихотворений, слишком незначительные, чтобы по ним судить о силе его дарования и его вкладе в римскую поэзию. Галл отразился как поэт в стихах своих современников-поэтов, которые отводили ему в своих рядах почётное место. Овидий, младший его современник, в перечне лучших поэтов элегического направления, к которому относил и себя, Галла ставит на первое место, а себя скромно называет четвёртым:
Галл, тебе наследником был Тибулл, Тибуллу – Проперций,
Был лишь по времени я в этой четвёртым чреде [4]
Ещё более впечатляющий образ Галла-поэта даёт связанный с ним дружбой Вергилий. Как поэт Галл стоит в его глазах так высоко, что он видит, – в VI эклоге «Буколик», – как при появлении Галла на Парнасе музы, покровительницы искусств, из почтения перед поэтом встают. [5]
Как следует из родового имени поэта, он был потомков тех галлов, кельтского племени, которые в V в. до н.э. поселились в Верхней Италии, со временем цивилизовались на латинский лад и вполне слились с римлянами. Гай Корнелий родился не в Риме, но его отец, владелец небольшого поместья в Цизальпинской Галлии, постарался устроить сына в привилегированную школу в Риме, где однокашником юного Галла оказался внучатый племянник (внук сестры) Юлия Цезаря Октавий (Октавиан по усыновлении его Цезарем), будущий император Август. Когда после убийства Цезаря, заподозренного, и не без оснований, в преследовании единоличной власти, 19-летний Октавиан, которому отошло по завещанию всё имущество Цезаря, выступил мстителем за смерть дяди, вокруг него сплотились приверженцы Цезаря, потрясённые вероломством заговорщиков, и открыли военные действия против них, продолжавшиеся, впрочем, недолго. В 42 г. до н.э. войско республиканцев-заговорщиков в битве при Филиппах было разгромлено, организаторы убийства Цезаря погибли. Галл, видимо, не задумываясь, примкнул к школьному своему товарищу и оставался с ним впоследствии, когда союзники стали делить власть и перешли к военным действиям уже между собой. Галл воевал на стороне Октавиана и его союзника Антония сначала против сына Помпея Великого в Сицилии, затем против самого Антония, главного соперника Октавиана в борьбе за власть в государстве. Он отличился в решающем морском сражении с Антонием при мысе Акции на северо-западе Греции 2 сентября 31 г. до н.э. Позже Октавиан направил его на завоевание Египта, куда, во владения царицы Клеопатры, удалился связанный с ней уже ранее брачными узами Антоний.
В 31 году до н.э. Октавиан ещё не стал спешить с преследованием и окончательным разгромом уже поверженного соперника, – ему нужно было закрепить плоды достигнутого. Он оставался на театре военных действий, теперь уже бывшем, видимо, дольше года . Ему надо было консолидировать военные силы государства, приняв в их состав остатки армии Антония. В Рим, куда он сам триумфатором явился лишь в августе 29 года, он посылает, чтобы ситуация в столице не вышла из-под контроля, Мецената, затем Агриппу, близких у нему лиц. Главное же, что следовало предпринять по достижении земного могущества, – это заключение союза с богами, без которого достигнутая военными средствами власть не была бы тверда. Приняв первые неотложные меры, Октавиан глубокой осенью направился в Грецию, чтобы в Элевсине приобщиться к мистерии Деметры/Персефоны. Он является туда как власть имущий, прекословить которому жрецы мистерии, предъявлявшей в иных случаях к кандидату требование длительных очистительных процедур, не смогли. Греческий историк начала III века до н.э. Дион Кассий сообщает, что ради него допущено было отступление от традиционного срока проведения посвящений в таинства. Они, – говорит он, – «проводились тогда не в положенное время, как говорят, ради Августа». То было начало традиции насильственного, неправомерного, отступающего от строгих требований мистерий посвящения римских цезарей [9].
Следующим летом Галл с тремя легионами высадился в Египте и наступал на Александрию с запада. К тому времени Антоний был уже мёртв. Он покончил с собой, поверив ложному известию о самоубийстве Клеопатры. I августа 30 года римское войско вошло в столицу Птолемеев. Римляне осадили царский дворец и усыпальницу, в которой на случай, если придётся принимать решение об уходе из жизни, укрылась Клеопатра. Она всё ещё не теряла надежды сохранить за собой царство и рассчитывала при личной встрече с Октавианом, тоже прибывшим в Египет, пустить в ход женские свои чары, против которых в годы её юности не устоял сам Юлий Цезарь. Галл принимал в захвате Клеопатры непосредственное участие. Он стоял перед запертым входом в усыпальницу и вёл из-за двери переговоры с царицей, убеждая её довериться Октавиану. Тем временем его товарищ незаметно пробирался в усыпальницу через остававшееся не заделанным отверстие в верхней части стены. Клеопатра, отвлечённая разговором с Галлом, заметила его слишком поздно. Так Клеопатра стала пленницей Октавиана. После свидания с ним во дворце она поняла, что её ждёт бесславная участь всех пленников, в соответствии с римским обычаем проводимых вместе со всей военной добычей в триумфальном шествии по улицам Рима. Чтобы избежать унижения, она покончила с собой во дворце. [6]
Октавиан высоко оценил заслуги Галла в овладении царской резиденцией Птолемеев. Ему было доверено завершить завоевание древней и богатой страны. Он назначил его префектом, правителем Египта, который надо было обратить в новую провинцию Рима. В этой должности Галл оставался до 26 г. до н.э. Из Александрии, ставшей, вероятно, и его резиденцией, он продвинулся с войском далеко на юг, до нильских порогов, где оставил, между прочим, в камне запись о своих свершениях в этой стране.
Перед взысканным милостями Октавиана Галлом открывался путь в сферу большой политики в Риме, если бы он не повёл себя в Египте так, как не следовало бы вести себя доверенному лицу императора. Дион Кассий сообщает о действиях, которыми Галл навлёк на себя немилость бывшего своего друга: «Корнелий Галл из-за оказанного ему почёта впал в гордыню. Он не только распускал об Августе всевозможные сплетни, но и совершил немало противоправных поступков: свои изображения он воздвигал по всему, так сказать, Египту и начертал перечень своих деяний на пирамидах» [7].
Мотивы поступков Галла, прошедшего с Октавианом весь его путь к вершинам власти в империи, Дион не приводит, – спустя два века после описываемых событий римский сенатор таким вопросом не задавался. Очевидно, однако, что отношение Галла к Октавиану под влиянием каких-то событий резко переменилось.
Галл находился при своей должности в Египте с лета 30 г. по 26 г. до н.э., когда по доносу одного из соглядатаев Октавиана, некоего Ларга, он был внезапно смещён и отозван в Рим. Если бы скандальные свои действия Галл предпринял в 30 – 28 гг., то он был бы уже тогда немедленно лишён должности и вызван для объяснения в столицу империи. Отзыв его из Египта в 26 г. придвигает «бесчинства» Галла близко к этой дате. В 27 г., в самом деле, в действие вступил новый фактор, вероятнее всего, толкнувший Галла к поступкам, которые заведомо не могли встретить одобрение в Риме. Событие, которому придаётся меньше значения в ряду тех, что полагали основания единовластия Октавиана, произошло 16 января 27 г.
В тот день римский сенат преподнёс Октавиану почётное имя Августа. Тогда это был ещё не титул, а только новое имя, под которым Октавиан и вошёл в историю, но начало традиции титуловать так императоров было положено в 27 г. до н.э. Возвеличенный или Возвышенный, как переводится новое это его имя, было для людей сведущих знаком того, что Октавиан стал причастным к богам путём посвящения. [8].
В посвящениях древнего мира человек в высшем смысле реально рождался заново и получал по возвращении из «посвятительного сна» новое имя. Его первый возглас по пробуждении в теле был обращён к божеству: «как ты меня возвеличил!» [8а]. Принятое Октавианом в 27 г. имя Августа давало понять, что он как посвящённый мистерий сравнялся с богами. Здесь кроется действительная подоплека того, что уже с 29 г. до н.э. «с разрешения» самого Октавиана ему стали воздвигаться, – но из осторожности вкупе с богиней-покровительницей Рима Ромой, – храмы и совершаться культовое служение им обоим в восточных провинциях и, стало быть, в Египте. В действиях, которые предпринял Галл в это время, читается безоглядный протест и одновременно вызов римского гражданина Галла бывшему своему товарищу по школьной скамье. Так оно и было воспринято в Риме, где сенат, на рассмотрение которого было передано дело, вынес суровый приговор: Галл был лишён имущества и приговорён к изгнанию. Галл предпочёл самому распорядиться по крайней мере самим собой – он ушёл из жизни по собственной воле [10]. Август преследовал его методично – Галл был не только лишён гражданского состояния, но и его поэтическое наследие было тщательно вымарано со страниц римской литературы, уцелели лишь обрывки стихов. В этом смысле след Галла в римской поэзии действительно затерялся. Пушкин в 1817 году хотел бы заново его отыскать, но где? – В собственном творчестве, чтобы не сказать – жизни.
Возвращался ли когда-либо Пушкин мыслями к Галлу? Видимо, нет. В бумагах его имя Галла как будто не встречается. Тому есть объяснение. Из сознания Пушкина Галл был вытеснен Овидием, поэтом младшего поколения, но схожей с Галлом судьбы. Подвергнутый опале со стороны Августа, Овидий был выслан из Рима на берега Понта (Чёрного моря) в Томы, где, оторванный от Рима, окончил жизнь. Пушкин в своей южной ссылке, вблизи места ссылки Овидия, живо ощущал сходство собственной судьбы, как сосланного в те же края, с участью Овидия, а неприязнь к императору Августу переключалась в нём на Александра I.
* * *
Среди крупных фактов биографии Пушкина лицейские его годы, 1811 – 1817 гг., занимают не проходное место. Лицей не был для него школой наук, – Пушкин был сам собственной своей школой. Эту сторону духовной его природы отмечали лицейские его учителя, один из которых, преподаватель истории И.К. Кайданов в отзыве о прилежании и успехах его писал: «При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи и сие должно приписать одним только его дарованиям» [11].
Жизнь Пушкина в лицейский период текла, как можно вывести уже из суждения о нём И.К.Кайданова, в двух различных планах. Там, где от лицеистов требовалось прилежание, он предавался искавшей свободного волеизъявления своей природе (отсюда всё то, что бросалось в глаза наблюдавшим его со стороны), в то время как внутри него совершалась тоже спонтанная, – и ещё долго остававшаяся в этом своём качестве, – работа, находившая выход в начальных опытах стихотворчества.
Значение Лицея как такового на жизненном пути Пушкина было, скорее, в том, что он свёл его сначала со сверстниками, неслучайность встречи с которыми выявилась для всех них позже, а затем, в 1815 – 1817 гг.– со старшими возрастом офицерами лейб-гвардейского Гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Среда молодых военных влекла Пушкина к себе иначе, чем общество лицеистов, представлявшее тогда простую данность. В кругу военной молодёжи, успевшей побывать в заграничном походе русской армии 1813 г., Пушкин находил выход во внешний по сравнению с лицейским его окружением мир. Среда эта давала ему возможность вкусить радости жизни, для лицеистов запретные, но также и возможность общения с образованными представителями молодой этой военной элиты. Знакомство Пушкина с П.Я. Чаадаевым произошло в этом кругу в 1816 г.
Скрепляющая сила внутреннего, собственно лицейского круга Пушкина сказалась при выходе из Лицея и сохранялась ещё долгие годы спустя. Когда лицеистам предстояло разойтись по разным путям, в гражданскую или военную службу, они уговорились впредь встречаться ежегодно, чтобы не растерять чувство общности, может быть братства, значимость которого оценена была ими, возможно, лишь в момент расставанья. Было решено сходиться на лицейские праздники в один и тот же установленный наперёд день 19 октября. То был день открытия Лицея, когда они собрались в этом своём составе в первый раз.
Примечательно, что они не уславливались праздновать день своего окончания Лицея 9 июня 1817 г. Им важен был, очевидно, момент, когда рука судьбы, приведшая их друг к другу, явила себя впервые. Собственно, они следовали в выборе этого дня выбору императора, назначившего открытие Лицея на 19 октября 1811 года (обставленное весьма торжественно, в присутствии императорской фамилии с самим императором во главе её, министрами, родными и прочими лицами). Впоследствии празднуя этот день, они едва ли и задумывались над тем, что царь стоял для них у входа в Лицей и у их же выхода из него (он почтил своим присутствием и акт 9 июня 1817 г.), – ведь он так и оставался для них фигурой при входе и выходе, без участия в том, что совершалось в Лицее в течение шести истёкших лет. Александр I действовал при учреждении Лицея, должно быть, повинуясь той же стихии, которая тогда свела будущих лицеистов вместе, но он всё же остался для них за его стенами, а день 19 октября остался в их памяти днём первой их встречи. Годы спустя, в этот день, в ими же самими установленном порядке, они как бы возвращались под кров Лицея, но то был теперь уже не день Лицея, а их день. Когда Е.А. Энгельгардт в 1836 году, в ту пору уже бывший директор Лицея, выразил пожелание, чтобы в 25-ю годовщину его основания лицеисты всех выпусков встретились и на этот раз 19 октября, первый, пушкинский выпуск не пошёл ему в этом желании навстречу[12]. Они чувствовали, что составляют сообщество, к которому не могут быть присоединены все лицеисты, бывшие после них, только потому, что они когда-то тоже учились в Лицее.
Ничто как будто не говорит, что в выборе 19 октября для празднования лицейских годовщин действовал какой-либо иной мотив, кроме возведения к самому моменту рождения Лицея. Симптоматично, однако, что тот же самый день в Риме, – по юлианскому календарю, введённому Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. и действовавшему в России с 1700 по 1918 гг., – был днём особой важности для римского войска. В Риме, который никогда не переставал вести войны, 19 октября был тем днём, когда с наступлением затишья в военных действиях (они велись с весны по осень) римские воины, сражавшиеся всё лето где-то в чужих краях, возвращались домой. Вступить на священную землю Рима, под сень отеческих богов они, осквернённые кровавыми битвами на чужой территории, могли не иначе, как пройдя обряд ритуального очищения. По заведённому порядку происходило это путём прохождения войска сквозь триумфальные ворота на границе Города и всегда 19 октября. Так они очищались от всего, чем запятнали себя в сражениях во враждебном мире, начинавшемся, как римляне ощущали изначально, сразу за городской стеной, в пространстве, принадлежавшем чужим богам, – освобождались от всего чуждого, с чем имели дело, а также и от того обличья, которое по необходимости приходилось принимать за городскими стенами. Это был свято соблюдавшийся сакральный обычай, по исполнении которого воины превращались в мирных граждан, а их оружие, также подвергшееся очищению, откладывалось до следующей весны. Возвращение в Рим было для римских воинов возвращением к домашнему очагу, родным пенатам, возвращением к самим себе.
Совпадения такого рода обычно не привлекают внимания. Мимо них проходят, приписывая их слепому случаю. Показательно, однако, для переживаемого в современной академической науке момента, что как раз «случай» и его роль в событиях занимает всё больше умы исследователей. От вмешательства «случая» чаще, чем принято думать, зависит исход иных, даже поворотных событий в жизни отдельного человека и в истории. «Случайное» же сопряжение однородных, но разделённых по времени событий, вскрывает пролегающие под их поверхностью связи. Так обстоит дело и с 19 октября в римской военной традиции и годовщинами открытия Лицея в Царском Селе, отмечавшимися лицеистами пушкинского выпуска.
Лицеисты, быть может, и не обращали внимание на совпадение установленной ими традиции с традицией римской, но они как будто следовали последней. Ключевое понятие для двух этих рядов событий, отделённых друг от друга расстоянием порядка двух тысяч лет, это – «возвращение домой».
К каждой встрече 19 октября Пушкин старался написать стихотворное обращение к друзьям, делая это иногда в выражениях, заслуживающих внимания в римском контексте. Стихотворение на 19 октября 1825 года завершают следующие хрестоматийно известные строки:
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы – нам целый мир чужбина
Отечество нам Царское Село.
Противопоставление Царского Села как отечества остальному миру как чужбине, из которой согласно уговору лицеисты из года в год возвращаются друг к другу 19 октября, выполнено совершенно в римской военной традиции и, главное, в том же мировоззренческом ключе. Как будто перешагнув через века, римские воины, облекшиеся ныне в лицейское платье, возвращаются в приютившую их на сей раз обитель, чтобы, отряхнув с себя пыль дорог, возобновить узы связи между собой в священный для них день. Укреплению чувства принадлежности своей к Лицею и Лицея к ним должны были служить ежегодные встречи их в день 19 октября [13].
Иное значение, чем круг его лицейских товарищей, имело для Пушкина общество молодых военных, в котором он был частым гостем в 1815-1817 гг. В офицерах Гусарского полка, стоявшего в Царском Селе, в весёлых встречах с ним, в их кутежах открывалась собственная его природа. Он чувствовал притяжение к этой среде по внутреннему сродству с ней. Влечение к военной среде и чувство сродства с ней толкало его к мысли о поступлении в военную службу, и чем дальше шло время, тем более настойчиво и серьёзней задумывался он об этом Служба как таковая, в особенности гражданская, была противна его природе, но с уставным распорядком военной службы он, видимо, как-то готов был ещё мириться, – он, знавший одну только дисциплину творческих моментов, подчинявшую его себе всецело, но и такую родственную «упоению в бою», которое было ему понятно внутренне.
Когда по окончании Лицея воспитанники его должны были определиться со службой и треть их выбрали службу в гвардии, Пушкин не решился присоединиться к ним. Он был приписан к Коллегии иностранных дел, хоть и после этого военная служба продолжала манить его. Лишь около 1819 года, после продолжительных колебаний он отодвинул в сторону мысль о ней, однако и не так далеко. Его отговорил тогда от неё один из братьев Орловых, военных, к которому обращены были написанные по этому случаю стихи:
Орлов, ты прав: я забываю
Мои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля – суеты!
Доводы Орлова как будто положили конец колебаниям Пушкина, но и тут он оставлял за собой возможность при сложившихся обстоятельствах внять голосу военного призвания, который всё же не умолкал в нём
Я буду петь моих богов,
И буду ждать. – Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, средь сечи, средь пожаров
С мечём и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.
Отодвинутое, но не исчезнувшее влечение к военной стихии по временам просыпалось в нём. Высланный из Петербурга на юг в 1820 году, он опять окружён обществом военных и опять находит себя в нём. Уже в 1821 году под впечатлением от слухов о готовящемся вступлении России в войну с турками на стороне восставших греков, он не без сожаления оглядывается на свой отказ от военной стези и восклицает в стихотворении «Война»:
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
…….
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела…
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая ещё не закипела?
Не находя применения в собственно военном деле натура Пушкина пользовалась всяким удобным случаем, чтобы заявить о себе, – в «Полтаве», в картине боя, исполненной настоящего военного пыла, но также во внезапном порыве попасть в действующую армию при объявлении войны с турками 1828 году., наконец, в бесцельной с виду поездке на кавказский театр военных действий в 1829-м («путешествие в Арзрум»). В своём роде итогом всему этому для нас может служить суждение о пушкинском гении лица, оказавшегося вблизи Пушкина в Кишинёве, человека не случайного на его жизненном пути, – Ивана Петровича Липранди. Сам военный, Липранди высказал впечатление от личности поэта, которое он сделал как человек, умеющий читать «между строк» жизни: «Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах… Глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы и поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного и в нём, конечно, он был бы лицом замечательным» [14]. Оставив в стороне заслуги Пушкина перед русской поэзией, очевидные современникам уже в период южной его ссылки, а, может быть, не желая теряться в хоре хвалебных голосов, Липранди сдержанно, но тем более впечатляюще говорит о том, в чём он более чем уверился, – об исключительном военном даровании Пушкина, оставшемся по каким-то причинам втуне..
Военный этос Пушкина можно, конечно, рассматривать сам по себе, как факт, замкнутый внутри его биографии, но его нельзя объяснить средой, в которой он родился и вырос, а, значит, он был когда-то и где-то раньше задан ему. В свете же истории Галла, нам всё же несколько известной, он представляется наследием, вынесенным из инкарнации в Галле. Только дарования римского поэта-воина Галла раскрывались в Пушкине иначе. Не так, как в Галле, в котором воин и поэт сосуществовали, проступая попеременно в зависимости от того, какой стороной своей души поворачивался он, и был ли он виден, так сказать, в фас или в профиль, – в Пушкине военная его природа была отодвинута вглубь, ей не было дано хода в его жизни, но с тем, чтобы задержанная в нём как сила его души она находила себе выход в стихах. На фоне Галла одностороннее это развитие Пушкина искупалось внесением в его творения того исключительного внутреннего равновесия, которое так отличает строй ,пушкинских стихов, тогда как воин и поэт Галл, сочетая призвание поэта с бранными подвигами, выдерживал это равновесие, должно быть, в своей жизни.
Среди кру
Мы не имеем никаких указаний на то, что мысль Пушкина когда-либо в послелицейские годы направляла его внимание в сторону Галла, но окольными путями другая сила его души снова и снова выводила его на следы, которыми в истории запечатлена героическая эта личность.
Пушкин охотно читал римских авторов и, случалось, не одних только первоклассных. Так, от чтения Тацита в первый год ссылки в Михайловском внимание его вдруг переключилось на труд позднего римского историка Аврелия Виктора «О знаменитых людях», который он, правда, нашёл скучным, и маловероятно, чтобы прочёл от начала до конца. Он не задержался бы на нём, если бы не открыл на последней странице сведения о царице Клеопатре у других римских историков отсутствующие: «Была она так сластолюбива, – сообщает Аврелий Виктор,– что часто продавалась, и так прекрасна, что многие покупали её ночи ценою смерти» (Перевод В.Брюсова) [15]. В продолжение десяти лет, с 1824/25 по 1835 гг., творческое воображение Пушкина занимал образ египетской царицы. .
Впечатление от прочитанного в Михайловском было столь сильно, что Пушкин тогда же сделал набросок стихотворения «Клеопатра»:
И снова гордый глас возвысили царица:
Забыты мною днесь венец и багряница,
Простой наёмницей на ложе восхожу…
Это был первый подступ Пушкина к стихотворной повести о Клеопатре. Четыре года спустя возникла новая редакция стихотворения. Шестистопный размер первого его варианта уступил место четырёхстопному, – Пушкин возвысился над материалом, казалось бы, овладел им. Образ египетской царицы Пушкин интерпретирован оба раза иначе, чем в освещении Аврелия Виктора. Обращению Клеопатры к собравшимся во дворце обожателям Пушкин предпослал нарисованную немногими мастерскими ударами кисти фигуру, исполненную какого-то трагизма: среди шумного праздника:
Она задумалась и долу
Поникла гордой головой…
. В толпе придворных, поклонников и рабов, в окружающей её роскоши она не видит ничего такого, что не было бы изведано ею ранее, что поднимало бы над уже известным. Это в некотором роде фигура возвышенная. Согласно меткому наблюдению одного из исследователей пушкинского сюжета, мир Клеопатры – «это мир, знавший героические дни. Но это мир на закате. Это люди, которые совершили великие деяния, но более совершать им уже не дано. Но они способны столь же ярко сгореть, как ярко и пламенно жили» [16]. Клеопатра Пушкина – разрушительница закатного этого строя жизни:
И пышный пир как будто дремлет:
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
– В моей любви для вас блаженство,
Блаженство можно вам купить…
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? –
Рекла – и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца.
Она смущённый ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих…
Пушкин смотрит вглубь. Клеопатра понятна ему. Он резонирует с ней в неукротимой жажде жизни, которая выводит на тот её край, где смерть становится освободительницей.
Трое из числа собравшихся во дворце гостей принимают неслыханный вызов: Флавий, «воин смелый, / В дружинах римских поседелый; / Снести не мог он от жены / Великолепного презренья…»; «За ним Критон, младой мудрец, / Рождённый в рощах Эпикура…»; «Последний имени векам / Не передал. Его ланиты / Пух первый нежно оттенял;/ Восторг в очах его сиял…» –
И грустный взор остановила
Царица гордая на нём.
Стихотворение это, по существу, осталось итоговым в работе Пушкина над сюжетом о Клеопатре. К нему, видимо тогда же, в 1828 г., был добавлен, фрагмент: из двенадцати строк
И вот уже сокрылся день…
…
В роскошном сумрачном покое,
Средь обольстительных чудес,
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.
Фрагмент этот должен был стать переходом к дальнейшему, но развития начатого сюжета не последовало. Действие останавливается, и, похоже, что Пушкин был не в силах сдвинуть его с места. Стихотворение осталось завязкой без последующего действия. Как и в первой редакции стихотворения, Пушкин остановился тут у какой-то черты, которую он тогда переступить не умел
После неудачи, постигшей его в 20-х гг., замысел о Клеопатре не давал покоя ему. В середине следующего десятилетия он делает две попытки подойти к теме с другой стороны и так обойти вставшую перед ним непонятную преграду. Не отказываясь от сюжета, заданного Аврелием Виктором, и оставляя за историей о Клеопатре центральное место, он переносит действие в современное ему общество, где вниманию собравшихся предлагается античный этот сюжет. В одном случае – в неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче у княгини Д.» – его излагает стихами в первой редакции один из гостей, в другом, в более пространной, но также неоконченной, повести «Египетские ночи», история Клеопатры вложена в уста заезжего импровизатора-итальянца. Стихи о Клеопатре, – в «Египетских ночах» во второй редакции, – идут оба раза вставным эпизодом, но, по сути, обе повести предназначены были составить не более чем повествовательную рамку для них. Складывается впечатление, что оба раза Пушкин пытался укрыться за рассказчиками занимавшей его истории. Однако и эта попытка Пушкина отойти от прямого авторского высказывания, как в стихах о Клеопатре 20-х годов, и отвести от себя, так сказать, внимание аудитории, которой стихотворение адресовано напрямую, осталась безуспешной. Доступ в покои Клеопатры для него был закрыт, обе повести были им оставлены, и к истории о египетской царице он более не возвращался.
Нельзя понять неудачу, постигшую Пушкина в работе с сюжетом, для него по всем признакам значимым, не оглядываясь на то положение, в котором находился Гай Корнелий Галл на момент захвата римлянами египетской царицы Клеопатры, укрывшейся в приготовленной ею для себя усыпальнице. Галл стоял тогда перед запертой дверью, ведя переговоры с Клеопатрой, но не встречаясь с ней лицом к лицу. Эту позицию Галла перед Клеопатрой, находившейся за дверью и его внутрь не впускавшей, мы видим воскрешённой в том положении, в каком Пушкин находится к героине своего стихотворения. Нельзя думать, что Пушкину был недоступен внутренний мир Клеопатры. Он предчувствовал величие этой души, выбравшей смерть во избежание унижения, которое ожидало её, стань она пленницей Октавиана, но случилось это потом, а Галл остался стоять перед дверью, по другую сторону которой стояла Клеопатра. Деталь малоприметная, но вовсе не маловажная в глубинных взаимосвязях душ, – одна из тех деталей, что кладут свою печать на отношения между людьми на века вперёд. Детали такого рода подобны знакам препинания, отвечающим за расстановку смысловых акцентов по ходу интонации внутри предложения, но тут уже внутри отношений, некогда завязавшихся между людьми.
* * *
Египет, взятый сам по себе, оставался за пределами интересов Пушкина, пока он был занят сюжетом о Клеопатре. По крайней мере, в стихотворениях о Клеопатре реалии древней этой страны непосредственного отражения не получили. Памятники её былого величия во времена Клеопатры были всего лишь напоминанием о былом цветении культуры на этой земле, а водворение иноземной династии Птолемеев – зримым свидетельством истощения духовных сил, построивших великую цивилизацию, теперь совершенно угасшую. Однако совсем обойти Египет стороной не давал Пушкину и его современникам подъём интереса к египетской древности в Европе и России благодаря дешифровке египетских иероглифов Ф. Шамполионом, позволившим приподнять завесу тайны, давно опустившуюся над древней страной. Пушкин питал живой интерес к достижениям современной египтологии. Случай вывел его на знакомство с русским египтологом И.А.Гульяновым, завязавшееся на исходе 1820-х годов. В декабре 1831 г. состоялась продолжительная их встреча в Москве, в ходе которой, как записал после Гульянов, разговор шёл «о моих трудах вообще и об иероглифических знаках в частности» [17] Запись эта была сделана Гульяновым на листе бумаги под рисунком, который во время беседы Пушкин набросал, фиксируя образно предмет их разговора, – абрис пирамиды без навершия, так называемого пирамидиона. Деталь замечательная! Века, прошедшие над пирамидами, не пощадили памятников величия фараонов и египетской цивилизации в целом, – хотя и не успели обратить их совсем в прах, но лишили пирамиды существенной их части.
Если верно, что верхушка пирамид в древности была покрыта золотом, то пирамиды представляли людям, взиравшим на них снизу вверх, важный символ: золотая глава их начинала сверкать в лучах восходящего солнца, ежедневно являя взору образ подъёма души, освобождавшейся из-под власти удерживавших её на земле четырёх стихий, пока она пребывала в теле, к Небу. Устремлённое вверх величественное сооружения из камня выражало во всей наглядности великое напряжение человеческой души, отрывающейся от земли, а золотая его верхушка – непреходящую её сущность, устремлённую к небесной своей прародине.
В какой мере идея, вложенная в пирамиды их создателями, была внятна Пушкину, нельзя, конечно, сказать, но при его даре улавливать в вещах сокровенные их смыслы, нельзя всё же и отрицать, что образ пирамиды, представленный Гульяновым воображению Пушкина, находил в нём соответственный отклик.
Начертанный рукой Пушкина при разговоре с Гульяновым рисунок пирамиды завершал разворот его в сторону Египта, начинавшийся при знакомстве с историей Клеопатры. Происходило это с ним в той последовательности, в какой римлянин Галл, ступая по почве Египта, завоевывал Александрии, руководил захватом Клеопатры, а будучи префектом завоёванной страны заканчивал своё правление действиями при пирамидах.
Жизнь, конечно, и в особенности жизнь творческой индивидуальности, не строится сплошь линейно. В ней есть отступления от прямого пути и даже забегания вперёд. Примером последнего служит известное послание 19-летнего Пушкина «К Чаадаеву», в котором задолго до встречи с Гульяновым проступает уже образ, нам известный по истории Галла:
Товарищ, верь, –
– обращается здесь Пушкин к собеседнику, которому в лицейские свои годы был обязан он расширением своего умственного кругозора, –
– взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Пушкин не оглядывается назад, его взгляд направлен вперёд, но прошлое, – и, похоже, что это были действия Галла в Египте, – как будто подсказывает ему слова, в которые надлежит облечь то, что он видит впереди. Имена людей, чьи заслуги перед завоёванной свободой будут оценены потомками, появятся на обломках системы, удерживавшей свободу для себя одной. Здание её рухнет. Но почему именно на обломках, а не где-нибудь рядом или совсем в стороне написаны должны будут эти имена? Быть может потому, что носители их не переросли свою эпоху, исчерпали себя в ней, остались при ней как её оборотная сторона? Быть может и потому, что Галл писал своё имя на пришедших в упадок памятниках египетского «самовластья».
* * *
В августе 1836 г., менее чем за полгода до роковой дуэли с Дантесом, Пушкин написал стихотворение, обнаруженное после его смерти в его бумагах Жуковским. Опубликованное под названием «Памятник» оно справедливо считается поэтическим завещанием Пушкина. Эпиграф к нему на латыни Exegi monumentum представляет начальную строку оды римского поэта Горация, аналогом которой пушкинское стихотворение и является. Пушкин не первым и не последним в русской словесности обращался к оде Горация – на середину XX века известны были пятнадцать её переводов на русский язык, выполненных знатоками латинской поэзии «золотого века Августа» [18]. Что заставляло их всё снова браться за перевод в русскую языковую стихию римского образца? Надо думать, магия звучания стихов Горация на латыни, не поддающаяся при всём старании воспроизведению средствами другого языка. Пушкин не переводил, но свободно следовал Горацию, высказывая возбуждённые в нём последним чувства. Оба «Памятника» содержательно близки друг к другу.
Гораций впервые в истории мировой словесности выводит на передний план творение человеческого духа, неподвластное действию времени. Он воспевает не себя, а совершённый труд, от которого отступает и смотрит на него отстранённо. Он следит за движением своего труда в будущем и знает, что труд этот вместе с его именем, отделившийся от него, пребудет во времени, когда он сам отойдёт в вечность, из которой в союзе с музой вышло всё, что ему удалось запечатлеть в слове.
Создан памятник мной. Он вековечнее
Меди и пирамид выше он царственных...
(Перевод А. И. Семёнова-Тян Шанского)
Пушкин следует Горацию во всём этом, почему справедливо называть пушкинский «Памятник» переложением горациева. В одном лишь моменте своего «Памятника» Пушкин выходит из-под зависимости от Горация, и тут видно, что он отталкивается от Горация, чтобы сказать то, чего у Горация не было и не могло быть. Оно в мотивировке памятника, оставленного по себе Пушкиным: он, Пушкин «восславил свободу», а пафос свободы, – для Пушкина коренящийся в свободе следования минуте творчества и расширяющийся до свободного изъявления человека в сообществе людей, – пафос этот у Горация не выражен. В остальном образная система обоих «Памятников» одинакова, лишь «Александрийский столп» занял у Пушкина место горациевых пирамид. Оба эти образа на свой лад каждый несут эхо совершившихся и значимых для обоих поэтов событий.
О том, чтобы Гораций посещал Египет и мог видеть пирамиды своими глазами, сведений до нас не дошло. Для того, впрочем, чтобы вспомнить о них в качестве эталона земного величия и высоты, Горацию и не надо было совершать путешествие в Египет, – о пирамидах как об одном из чудес света в античном мире хорошо знали. Однако в контексте эпохи, – Гораций был современником Галла, – упоминание египетских пирамид с тем, чтобы противопоставить им труд поэта, наводит на мысль, что тут содержится скрытое порицание действий Галла в Египте. В Риме они были расценены как непозволительное превознесение Галлом своих заслуг в забвении того, кому он обязан своим положением в Египте, кому принадлежит теперь власть в государстве и все причитающиеся этой власти почести. Так представляет их в своём труде Дион Кассий, а историки следуют ему до наших дней. В одной из современных биографий Августа самочинные действия префекта Египта, автор объясняет так:.«Галл не понимал, что его положение требует величайшей сдержанности, что Октавиан не потерпел бы рядом с собой других «богов», что только он может занимать первое место. Но первый префект Египта чувствовал себя почти преемником фараонов и Птолемеев. Охваченный честолюбием и жаждой славы, он, по меньшей мере, позволил (если не сам распорядился), чтобы ему всюду в стране воздвигались статуи, а помпезные надписи возвещали о его собственных деяниях, а не его господина в Риме. Некоторые из этих надписей были написаны на пирамидах, выдающихся символах царской власти. Один из текстов был найден на Ниле на острове Филе, так что мы можем представить себе, каким образом Галл пропагандировал себя» [19].
Чтобы Галл был наивен в такой степени, что не понимал очевидных всем истин, – крайне сомнительно. Быть может как раз потому, что он знал Октавиана слишком близко, прошёл с ним весь тот путь, который вёл на вершины власти в Риме, Галл обращал пирамиды в летопись своих деяний, чтобы хоть так здесь, в Египте быть не ниже возвысившегося над миром Октавиана. Бросал ли он этим прямой вызов Октавиану, это вопрос. Но что своими действиями он пытался, – быть может, только лишь для одного себя, – сократить расстояние, вставшее между ним и Октавианом с тех пор, как потерял его из вида, представляется вероятным.
Гораций, конечно, не мог не знать об этой истории, но недолжное в действиях Галла он видел бы в ином, нежели видели его в официальном Риме, – не в посягательстве на прерогативы высшего должностного лица в государстве, а в забвении Галлом-воином своего поэтического достоинства, не нуждающегося в средствах, избранных им для сохранения своего имени в памяти людей. Действия Галла, – для Горация сначала поэта, а потом воина, – могли вызывать возражения и послужить для Горация толчком к созданию своего «памятника». В противовес Галлу, пытавшемуся увековечить себя, как могло представляться в литературных кругах Рима, надписями на пирамидах, по своей природе такого увековечения не обещавших, Гораций выводит труд поэта из-под действия времени, которому подвержено в этом мире всё, даже и пирамиды
Согласно дневниковой записи 28 ноября 1834 г. Пушкин уехал из Петербурга за пять дней до открытия памятника императору Александру I, гранитной колонны почти в 50 метров высотой, на площади перед Зимним дворцом, назначенного на 30 августа (11 сентября н.с.) 1834 г. Оставайся он в городе в эти дни, придворное звание камер-юнкера обязывало бы его участвовать в торжествах. Спешный отъезд свой из столицы Пушкин мотивирует желанием избавиться от неудобной этой обязанности. Однако возвращение его мыслями к своему отъезду в августе в записи 28 ноября, по сути, обнажает настоящий мотив тогдашнего его поступка, – он продиктован был не одними только соображениями неудобства носить камер-юнкерский мундир в толпе придворных. В завещательном своём стихотворении, первую строфу которого замыкает образ Александровской колонны, –
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа…
он соизмеряет оконченный, как он видит, свой труд с колонной, возведённой недавно на Дворцовой площади в Петербурге, поскольку она стала мерилом славы нелюбимого им императора. Превосходство совершённого им для России дела над заслугами, официально приписываемыми Александру I, очевидно Пушкину.
Мало заметной и потому редко отмечаемой чертой характера Пушкина было влечение его к политической сфере и желание играть в ней какую-то неопределённую, но заметную роль. На неё обратил внимание В. Брюсов, подметивший притязания Пушкина после Лицея на какое-то политическое значение: «Пушкин считал себя в те годы важным политическим деятелем». Это стремление Пушкина как-то выделиться на почве политической в нём не пропало и позже. «Когда позже, в Михайловском, – продолжает Брюсов, – Пушкина посетил И.И.Пущин, Пушкин стал рассказывать ему, будто император Александр ужасно перепугался, найдя его, Пушкина, фамилию в списке приезжих. Пущин совершенно справедливо заметил ему, что напрасно он мечтает о своём политическом значении» [20]. Нельзя не ощутить в этом эпизоде желания Пушкина думать, будто на него обращено внимание императора. Настроение молодого Пушкина вписывается в характерное для молодого поколения вообще стремления бросить вызов властям как средства заявить о себе. Однако в случае Пушкина оно имело определённую направленность – личность императора Александра I.
Отношение Пушкина к Александру I было в течение всей его жизни устойчиво неприязненным, хотя учредитель Лицея, под кровом которого Пушкин пробуждался к сознательной жизни и творчеству, заслуживал как будто благодарной памяти. Между Пушкиным с Александром I точек соприкосновения не было, но периферийно присутствие царя в его жизни для Пушкина было ощутимо, а то, что шестилетней своей ссылкой он был обязан ему, Пушкин никогда не забывал. Одной ли ссылкой, оторвавшей его от столичной жизни, мог объяснять себе Пушкин зародившуюся в нём неприязнь к царю? Лишённый столичного общества Пушкин в те годы с избытком возместил временно понесённую утрату расширением круга своих жизненных впечатлений на юге, а вынужденное уединение в Михайловском в 1824-1826 гг. обогатило его творческими достижениями, для которых рассеяние столичной жизни было едва ли благоприятным. Пушкин, конечно, не обязан был быть благодарным царю за ссылку, но в балансе потерь и приобретений он оставался благодаря ссылке едва ли не в выигрыше. Перед очевидным преимуществом тех лет, давших ему так много, фигура царя по истечении срока ссылки отступала как будто далеко на задний план. Тем не мене след, оставленный императором Александром в жизни Пушкина не изгладился и годы спустя. Ещё в 1831 году в Х главе «Евгения Онегина», сохранившейся фрагментарно, Пушкин вспоминал об эпохе Александра I:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Поздние эти строки Пушкина могли бы быть равным образом отнесены к Октавиану-Августу, военным талантом, как и Александр I, не обладавшему, но умело пользовавшемуся людьми, чтобы, опираясь на их подвиги, возвыситься, – в случае Октавиана возвыситься до вершины власти в Риме, в случае Александра I после заграничного похода русской армии, преследовавшей Наполеона, – до всеевропейской славы, им, как виделось Пушкину, едва ли заслуженной.
«Александрийский столп» – последний расчёт Пушкина с монархом, несовместимость с которым он смутно ощущал до конца своих дней. Внутренняя связь двух этих людей, представшая перед нами в конечном своём обличье в Пушкине и в императоре Александре I, установилась, конечно, не в Риме, но в ещё более раннюю историческую эпоху, куда взгляд исследователя, не вооружённого современным ясновидением, проникнуть едва ли может
Примечания:
1.Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825-1846. // Николай I.Муж, отец, император. М., Слово. 2000. С.280.
2. Русский архив. 1878.Кн.III. С.29.
3. См.: Слонимский А.Л. О каком «возвышенном Галле» говорится в оде Пушкина «Вольность»?// Пушкин. Исследования и материалы. Т.IV. Л., 1962. Обзор предполагаемых прототипов «Галла» среди французских поэтов см. в кн.: Василий Моров. Ода Пушкина «Вольность» и «Арзамас». М. Новое зерцало. 2009. С.225 сл.
4. Публий Овидий Назон. Вступ. статья и перевод стихотворения С.Ошерова. М.,1983. С.5.
5 Вергилий. Собрание сочинений. СПб., 1994. С.47.
6. Плутарх. Антоний.//Сравнительные жизнеописания. Том III М.,1964.
7. Кассий Дион Коккейан Римская история. Перев. с древнегреч. под ред.А.В. Махлаюка. СПб., 2014 – Кн. LIII, 23, 5.
8. Кассий Дион Кокейан. Ук. соч. Кн. LI, 4,1. Сделанное ранее вкратце сообщение о посвящении Октавиана в Элевсинские мистерии Дион дополнил указанием на экстраординарный его характер в кн. LIV, 9 своего труда.
8а. «Когда посвящённый вновь пробуждался в теле, когда он мог снова слышать и говорить посредством физических чувств, тогда он произносил слова, которые на еврейском языке звучали так: «Eli, Eli, lama sabachtani!» – «Господь мой, Господь мой, как ты меня возвысил/возвеличил (hast erhöhet)!» (Vortr. 2 Dez. 1906 GA 97, S.72). Рудольф Штейнер воспроизводит здесь слова Христа Иисуса, произнесённые с Креста и знаменующие, что смерть на Голгофе была воспроизведением открыто перед всем миром таинства мистериального посвящения. О мистериальном характере события Голгофы Штейнер говорит в своих лекциях многократно.
9. См.: Rudolf Steiner. Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. GA 175. Vortr. 14 Apr. 1917. В лекции, в частности, говорится: «То, что настало, – сначала это произошло при Августе, который, однако, ещё не злоупотреблял этим, – это то, что римские цезари просто в силу их распоряжения должны были быть посвящаемы в мистерии. Это стало обычаем». S.267.
10. Такой способ ухода из жизни был своеобразной нормой в IV культурной эпохе. Это был способ свести счёты с несправедливой судьбой, которую вершат боги, тогда как человек не знает своей вины перед ними. Их непостижимую власть над собой всегда помнил человек, старавшийся всячески умилостивить их при жизни, но, сознав своё бессилие перед ними, считая, что они от него отвернулись, он уходил из жизни, словно бросая им, – ведь они правили по эту сторону бытия, – вызов. Мироощущение это было распространено повсюду в IV культурной эпохе, когда врата духовного мира для человека закрылись и понятие о повторных земных жизнях и выравнивающем действии кармы исчезло из сознания людей.
11. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851 – 1861 годах. Изд. М. и С Сабашниковых. М..1926. С.22-23.
12. К.Я. Грот. Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. СПб., 1909. С. 58-59.
13. День 19 октября заключал и для Пушкина лично нечто особенное. В его бумагах сохранилась примечательная пометка, относящаяся к последней главе «Евгения Онегина»: «19 октября сожжена X песнь». Уцелевшие всё же строфы объясняют, почему сохранение её в целом было для автора небезопасно, но уничтожение этой главы именно19 октября (1830 г.) выглядит наподобие искупительной жертвы, которую Пушкин, не лишённый чувства духовного строя вещей, принёс «своим богам».
14. Пушкин в воспоминаниях современников. Изд. 3. СПб,, 1998. С.326
15. Валерий Брюсов. Мой Пушкин. М. – Л., 1929. С.117. Сравн.: Аврелий Виктор. О знаменитых людях. В кн.: Римские историки IV века. М., 1997. С.224.
16. Нусинов И. Пушкин и мировая литература. М., 1941. С.332.
17. Временник Пушкинской комиссии. 1965. М., 1968. С.15
18. См.: Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. Приложения.
19. Eck Werner. Augustus und seine Zeit. München. 1998. S.50. О тексте, обнаруженном на острове Филе см.: Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М.–Л. 1949. С 169
20. Валерий Брюсов. Мой Пушкин. М. – Л., 1929. С.11-12.