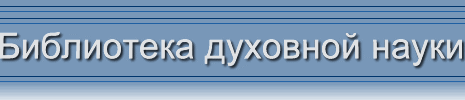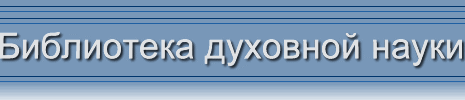Поэзия
влеченью слов
высокий сообщает строй
Из утреннего сновидения
В эпоху раннего своего детства человечество, спускаясь из духовных сфер на землю, выражало пробуждающиеся свои впечатления и переживания междометиями, – так видит далёкое это прошлое Рудольф Штейнер: «В праязыке все слова были междометиями, словами для выражения ощущения». (25.06.1924. GA 279, S. 60). Язык и сам медленно опускался на землю, насыщаясь земным содержанием и слагая сочетания звуков в слова. Поэзия имеет задачей вновь вывести язык из-под власти земной тяжести, – она достигает своей цели путём введения обиходной речи в стихотворные ритмы, приведения слов посредством разнообразных размеров к их слоговой природе, обращения обиходного смысла слов к исполненным смысла звучаниям.
Пушкин первым в ряду русских поэтов легко и естественно справился с переводом разговорного языка в стихотворный, так что, оставаясь живым разговорным, он в то же время обогатился формами, которых обычный разговорный язык лишён. С этой задачей Пушкин, как и другие поэты, не мог бы совладать, если бы в нём не оживало воспоминание о праязыке, о том, каким язык некогда был и каким он, собственно, должен был бы быть. Опытами, приобретёнными человеческой душой в прошлых эпохах и теперь воскресавшими в нём, Пушкин пользовался как по наследству, как тем, что было всегда при нём. Такие опыты у поэта коренятся неизменно в мистериальном прошлом души. Так, в стихотворении «Пророк» Пушкин со знанием дела дал описание момента пробуждения восприятий сверхчувственного порядка:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы,
Моих ушей коснулся он, –
И их наполнил шум и звон;
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье…
Пробуждение высших чувств описано в этих строках так, как будто поэт и в самом деле испытывает его сейчас. Нетрудно заметить, однако, дистанцию по отношению к собственному переживанию – словно в поэте вдруг заговорила память о пережитом, когда он раскрыл книгу пророка Исайи. Душа его откликается, – ей это знакомо! – на строки библейского пророка, но налёт некоторой литературности всё же лежит на строках пушкинского стихотворения.
Посвятительная подкладка творчества Пушкина просматривается и в других его стихотворениях, она проступает и у других его современников-поэтов, с той только разницей, что ностальгии по прошлому Пушкин, в отличие от некоторых из них, не испытывал. Пушкин был страстно привязан в миру, в котором ему довелось жить, а дар стихотворчества позволял ему преодолевать зависимость от этого мира. В содержательном отношении творчество Пушкина вполне посюсторонне, и если творческое начало в нём постоянно брало верх, то происходило это благодаря тому, что он следовал не одним лишь свойственным поэту вообще воспоминаниям об опытах, приобретённых в пройденных жизнях, а в более глубоком смысле образцам, заданным человеку его творцами на заре земной истории. Присмотримся с этой точки зрения к знаменитой «онегинской строфе»
Пушкин: Онегинская строфа. – В этой строфе в 14 строк выдержаны все восемь глав «Евгения Онегина» (далее ЕО). Пушкин приступал к работе над «романом в стихах» в возрасте 23-24 лет, смутно представляя, что из его начинания выйдет. В основном роман был окончен в пять лет (лишь письма Онегина и Татьяны были введены в него позже). Исследователи ЕО подчёркивали, что строфа, определившаяся в своей структуре с самого начала работы, почти в неизменном виде проходит через весь роман, что написана она четырёхстопным ямбом, что 14 её строк распадаются на три четверостишия – в целом 12 строк с добавлением к ним ещё двух строк, в которых содержится интонационный итог строфы. Последние эти строки выводят строфу из внутреннего её пространства вовне, хотят нечто передать миру (в отдельных случаях в виде «афоризмов житейской мудрости»),
Для наглядности воспользуемся хрестоматийно известной второй строфой пятой главы ЕО:
1. Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
2. На дровнях обновляет путь;
3. Его лошадка, снег почуя,
4. Плетётся рысью как-нибудь
1. Бразды пушистые взрывая,
2. Летит кибитка удалая;
3. Ямщик сидит на облучке
4. В тулупе, в красном кушаке.
1. Вот бегает дворовый мальчик,
2. В салазки жучку посадив,
3. Себя в коня оборотив;
4. Шалун уж заморозил пальчик:
1. Ему и больно и смешно,
2. А мать грозит ему в окно…
Четверостишие – отдельное замкнутое целое внутри строфы. Четверостиший неизменно три на протяжении романа, быть может и потому, что в трёх этих случаях возможности рифмовки исчерпываются – в распоряжении поэта есть лишь рифмы перекрёстная, смежная, охватная или опоясывающая. Так, в четверостишии, открывающем строфу, использована рифма перекрёстная (первая строка рифмуется с третьей в обход второй, вторая – с четвёртой, минуя третью); во втором четверостишии рифма смежная (рифмуются две непосредственно соседствующие строки: первая со второй, третья с четвёртой); в третьем четверостишии рифма охватная (первая строка находит себе рифму в наиболее отдалённой четвёртой строке).
Рифмы создают из строк пары пары, и это не менее существенно, чем сами рифмы, которые обращают на себя внимание прежде всего. Важно также, в какие отношения между собой вступают эти пары строк Первая строка с третьей, вторая с четвёртой в первом четверостишии проникают друг в друга, так как ожидание перекрёстной рифмы создаёт пространство внутри пары, в которое вклинивается другая. Ожидание своей рифмы более существенный структурообразующий принцип внутри четверостишия, чем одинаковый для всех четырёх строк четырёхстопный ямб и даже сама рифма.
Что же за таинственные связи строят тут подвижное и, как кажется, живое целое?
В мире нет другой четверицы, которая могла бы служить образцом всякого творческого акта, образцом, от которого никакой творец не в состоянии уклониться, кроме четверицы человеческого Я, человеческого астрального тела, человеческого эфирного тела и, наконец, тела физического. Так выстраивали человека его творцы, Элохимы, Духи Формы духовной науки, а «человек – мера всех вещей».
Каждое четверостишие представляет отражение четырёхчленного существа человека, обитателя Земли, как целого, но каждое делает это на свой лад. Импульс ко всему четверостишию исходит от первой строки, и это строка Я. Я – исходный пункт осмысленного человеческого действия, и это Я в первой строке приводит в движение стихи. Они же выстраиваются далее согласно строению человека как земного существа: 2-я строка – отражение астрального тела, 3-я – эфирного тела, 4-я физического тела. Погружаясь в последовании строк в сферу воли, организующие силы первой строки достигают четвёртой и в ней исчерпываются – интонационно.
Смысл такого построчного распределения основных сил человеческой организации в онегинской строфе не в настроении отдельных строк, – хотя и так можно было бы прочитать движение от строки к строке, но оно не всегда ясно выражено, – а в том, каким образом строки тяготеют друг к другу. Первое, второе. третье четверостишие в этом отношении вполне самостоятельны: первая, вторая, третья, четвёртая строки выступают в них разными парами, а то, в какой паре они находятся, отражает отношения, в которые вступают друг с другом Я, астральное тело, эфирное тело, физическое тело смотря по обстоятельствам.
Первое четверостишие. Для начала и предварительно рассмотрим первое четверостишие в данном аспекте. Оно строится, как отмечено, на основе перекрёстной рифмы: первая строка рифмуется с третьей, пропуская вторую, вторая в обход третьей – с четвёртой. Такая рифмовка создаёт целостное пространство, устойчивую и равновесную структуру первого четверостишия. О том, что в ней таится, далее.
Второе четверостишие. Совершенно иную картину являет здесь соотношение строк. Первая строка рифмуется сразу со следующей, я третья со своей соседкой четвёртой. Ожидание рифмы тут сведено к минимуму. То же с третьей и четвёртой строкой Пары строк сложились здесь заново и иначе, чем в первом четверостишии, но главное – единство, в которое перекрёстная рифма в первом четверостишии скрепляла четыре строки, здесь распалось. Две пары, возникшие теперь, самостоятельны, и лишь четырёхстопный ямб, от которого никуда не деться, удерживает подобие целого. Если положение этих строк соотнести с отношениями внутри человеческой организации, то две эти пары строк, – первая и вторая строки это строки Я м астрального тела, а третья и четвёртая эфирного м физического, – то две эти пары отражают момент, когда человек из состояния бодрствования переходит в состояние сна. Я и астральное тело покидают эфирное и физическое тела, которые остаются внизу, и уходят на ночь в духовный мир. Это положение очевидным образом отражено в структуре второго четверостишия, в котором две пары строк не связаны ничем, кроме сквозного для всей строфы размера, четырёхстопного ямба. («Эфирное и физическое тело остаются между рождение и смертью всегда вместе. Я и астральное тело также остаются вместе. Но астральное тело и эфирное тело не остаются вместе. Они расходятся каждую ночь. Тогда между астральным телом и эфирным телом имеется более свободная связь» (8.05.1920. GA 201, S.188).
Третье четверостишие. Положение исправляется в третьем четверостишии. Первая строка находит свою пару лишь в четвёртой в обход второй и третьей, которые создают свою пару опять посредством смежной рифмы, но положение сомкнувшихся строк здесь иное, чем во втором четверостишии, – они заняли здесь подобающее место посередине. Ожидание рифмы к первой строке создало для строк со смежной рифмой внутреннее пространство, которое они и заполнили.
Утраченное единство строфы здесь восстанавливается, но оно иное, нежели единство, которое показывала первая строфа. Здесь Я из первой строки находит свою законную опору в физическом теле, (представленном в онегинской строфе везде четвёртой строкой), – оба они, Я и физическое тело, образуют единый мыслительно-волевой комплекс, тогда как астральное тело с эфирным представляют комплекс промежуточных душевных переживаний, сквозь которые мысли проходят, чтобы привести в действие волю. Форма, на которую «онегинская строфа» выходит в третьем четверостишии, итоговая, – она воспроизводит образ человека в состоянии бодрствования, то есть в состоянии, в котором человек развивает сознание Я.
Если вернуться теперь к первому четверостишию с его исходной равновесной структурой, то бросается в глаза связь строки-Я со строкой эфирного тела. Импульс от Я с его волевой природой доходит лишь до эфирного тела. Но здесь это признак начального этапа построения земной человеческой организации в целом. Согласно Рудольфу Штейнеру, «человеческое Я действует по меньшей мере уже тогда, когда человек через рождение вступает в бытие, и особенно в те времена, когда дитя ещё долго не имеет сознания Я» (20.11. 1912. GA 141, S. 33). Само Я в этом возрасте не развивается, оно строит нижнего человека как единое эфирно-физическое целое. Эфирное тело в это время на свой лад служит Я в его созидательной работе. Оно остаётся в живой связи с эфирным Космосом, вместе с которым Я ещё действует, и высвобождается эфирное тело из своей тесной связи с Космосом и физическим телом лишь на седьмом году жизни человека. Опереться на физическое тело в целях собственного развития Я сможет лишь по достижении 21-го жизни человека. Тогда отношение Я к физическому телу устанавливается как норма, что мы и видим отражённо в третьем четверостишии. Пока же физическое тело ещё только возникает, а Я его строит, Я по-настоящему и не бодрствует. Такое положение отражено в первом четверостишии онегинской строфы.
Ничего этого Пушкин, понятно, не знал, но свободная его интуиция следовала творческому образцу, заданному человеку свыше, ибо, повторяем, «человек – мера всех вещей».
Задача Пушкина в его время собственно выходила за рамки поэзии. Определённая, правда, не им самим, а тем местом, которое отведено было ему в становлении новой русской культуры, задача эта средствами поэзии достигала важной своей цели: она ставила русского человека, приобщавшегося к европейской культуре, на землю. Пушкин не случайно рано испытал сильное притяжение к творчеству Вольтера, которого читал в оригинале (в семье французский язык был обиходным, и для Пушкина он был вторым языком, если не первым). Ведь Вольтер, по замечанию Рудольфа Штейнера, играл именно эту роль в Европе XYIII века: «…он был призван по существу поставить людей на собственные их ноги» (Лекция 10.10.1905, GA 93а, S.115,).
Однако формула «Пушкин – наше всё», часто повторяемая ныне (она принадлежит поэту и литературному критику Аполлону Григорьеву) не об этом. Она о гармонии как примечательнейшей особенности поэтического мира Пушкина. Ею пронизаны его стихи не просто по свойству его таланта, но потому, что ему было, так сказать, дано подниматься, творя, в сферу Самодуха (от нем. Geistselbst) как источника гармонического строя будущей, – пока что далёкой от нас, – русской (славянской в широком смысле) культуры. С этой стороны стихи Пушкина вносили порядок в хаотический строй русской душевной жизни, по крайней мере приучали её к такому порядку и на бессознательном уровне всё же служили обетованием грядущей культуры Самодуха, а Самодух – это и есть «наше всё».
Баратынский Евгений Абрамович. Прорицание
Во время одной из лекций 1922 года Рудольф Штейнер, глядя на стоящий в помещении бюст Гомера, заметил, что он производит впечатление, будто певец «Илиады» и «Одиссеи» «вполне добровольно ослеп». Штейнер добавляет: «…я говорю при этом образно, – ослеп, чтобы при определённом слушании не испытывать помех со стороны зрения. Он внимает тому, что воспринимает в пульсациях, что вибрирует из пульса Космоса и пульса человеческой крови, человеческого эфирного тела и на чём воздушные существа исполняют сои гармонически- мелодичные танцы… Он слышит, например, как вибрирует гекзаметр» (2).
Вибрации Космоса в сочетании с вибрациями крови слушают и лирические поэты, а с восхождением лирической поэзии Нового времени им не нужно было уже закрывать глаза (тем более совсем лишать себя зрения), чтобы на воспринимаемые ритмы Космоса и крови у них ложились слова, диктуемые изнутри их Я, – степень свободы поэтов от окружающего мира с ходом времени значительно возросла, так что при внимании к вибрациям Космоса они всё больше находили опору в укреплённом чувстве Я.
Поэт стремится прийти в состояние гармонии с миром, когда он берётся за перо, и в этом настоящая поэзия не знает исключений. Пушкин счастливо достигал этой цели, так как гармония стихий была доступна ему, – он включался через неё в общий мировой строй. Поэты, которые выходили на смену ему (и другим поэтам его круга), должны были исходить из чувства обострённого разлада с миром, но, значит, – причины и следствия тут нераздельны, – и с самими собой. Их стихи тоже становятся средством к достижению гармонии, но – Пушкину стихотворчество помогало восстановить порядок в душевном его мире, – он жил в ощущении незыблемой гармоничной основы мирового порядка. Воссоединение с той же гармонией для поэтов, пришедших в поэзию после Пушкина, – после, хотя бы они и были его современниками, – всегда оставалось под вопросом. Связь человека с миром стояла для них под вопросом.
В одном из «Разговоров с духами природы», которыми так богаты «Фленсбургские тетради», сборники своеобразных собеседований антропософов во Фленсбурге с доступными им в общении представителями элементарного мира, «воздушное существо», очевидно одно из тех, что в приведённом выше высказывании Рудольфа Штейнера исполняют на пульсирующих потоках Космоса «гармонически-мелодичные танцы», высказывает свой взгляд на красоту в искусстве. «Мы, - говорит оно в передаче участницы разговора, – существа воздуха, являемся носителями красоты и ценителями искусства. Благодаря тому, что свет – это иная форма красоты, человеческие попытки создать красоту имеют совершенно особое значение для нас». На вопрос, что же такое, в сущности, красота, дух воздуха отвечает: «Красота – это способность воспринимать свет с другой стороны. Если ты выйдешь за пределы пространства, ты окажешься уже не в свете, а в красоте». На вопрос «Красота – это состояние гармонии?» со стороны духа воздуха приходит ответ, представляющий интерес в контексте развёртывания исканий поэтов после Пушкина: «Гармония – это равновесие, среднее положение весов. Из среднего положения открывается центр красоты. Из крайних положений возникает нечто ложное, искажённое. Многие из живущих ныне художников занимают крайние позиции, благодаря чему возникает их большей частью весьма индивидуальное искусство. Это искусство за пределами гармонии. Оно может быть прекрасным, но лишь в процессе постижения крайней позиции. Дисгармония может быть прекрасной. Однако состояния красоты этого рода достичь гораздо труднее».(3)
У Пушкина и поэтов того же строя мыслей в стихах преобладает стремящаяся к ясности, утвердительная, в конечном итоге позитивная интонация. Они образуют в некотором смысле дружную семью – «пушкинскую плеяду». Несколько в стороне от них стоит сам автор знаменитого определения – поэт Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844). Поэт той же эпохи, Баратынский, пытается следовать в стихах общему её направлению, но там, где он обретает собственный свой голос, царит как будто незавершённая, едва ли не вопросительная, неуверенная интонация. Вот стихи, наиболее показательные в этом отношении:
Мой дар убог, и голос мой негромок,
– недосказанным, но подразумеваемым тут, несомненно, осталось: сравнение с Пушкиным –
Но я живу, и на земле моё
Кому-нибудь любезно бытиё:
Его найдёт далёкий мой потомок
В моих стихах; как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашёл я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.
Написанное двустопным ямбом, чередующимся с четырёхстопным, стихотворение это никак не может раздаться вширь, оно вытягивается в длину и вверх, – так приходит поэт к самому себе:
Читателя
найду
в потомстве
Я.
– так может быть записана заключительная эта строка.
Последнее слово здесь ключевое. Вообще, последняя строка у поэта всегда находка, для него неожиданная. Начиная стихотворение, он не знает, чем кончит его, но когда строка найдена, он уверенно останавливается, так как видит, что всё уже сказано и дальше ему идти некуда. То же и у Баратынского Последнее слово здесь ключевое ещё и потому, что «Я», поначалу лишь подразумеваемое, теперь стоит в конце. Оно заняло это место обнажённое, вне всякой опоры, но и в себе как будто не вполне уверенное. Поэт искал опору, но вокруг себя её не находил. Читатель, вполне созвучный ему, обретается предположительно в будущем. Отсюда интонационный оттенок неполной уверенности, – быть может, в себе самом также.
Если это признаки одиночества, то одиночества не гордого. 24-летнийпоэт поэт здесь ещё недостаточно зрел, чтобы понимать, что Я в одиночестве крепнет. Он останавливается в этом стихотворении, – так было и в жизни, – перед следующим шагом, так как не знает, куда следовало бы направить его. Подобных этому небольшому стихотворению в восемь строк в сжатой до предела форме, у Баратынского больше не встречается.
«Я» Баратынского не находится в созвучии с миром, и едва ли не оно само источник разлада с ним (как у великого его современника Тютчева: «И ропщет мыслящий тростник»), но в прошлом когда-то оно было в согласии с ним. Это не осталось для Баратынского в отличие от Пушкина забытым. Пушкин был весь в настоящем. – Баратынский чувствовал себя на своём месте в эпохах, лежащих далеко позади. И что же это ха эпохи? То было время, когда человек пребывал в лоне Природы и был счастлив там.
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил её знаменья с верой,
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала,
О нём дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала…
Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий…
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
Обладание умом и с ним вместе исследование вещей мира свободной мыслью – вот цена понесённой человеком утраты. Примечательно, что как раз мыслительный элемент выделял Пушкин в особое достоинство поэзии Баратынского. «Баратынский, – писал Пушкин, – принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален – ибо мыслит». Пушкин уточняет: «мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко» (ПСС в шести томах. Т..6/1. М., 1948. С. 201). Подмеченная Пушкиным черта в самом деле ставит Баратынского на особое место в русской поэзии (рядом с Тютчевым, справедливости ради надо заметить). Хотя мысль в сопряжении с чувством движет поэзию как таковую, у Баратынского рефлектирующая мысль выводит его на ту высоту, где он должен был чувствовать себя особенно одиноко, но вместе с тем на границу двух миров, к которым человек принадлежит своим существом одновременно, – небесного и земного. На этой границе рождались у Баратынского вещи, сделавшие его наиболее непонятым среди поэтов своего века, да и остающегося непонятым поныне.
Случилось так, что двенадцатью годами раньше, чем родились стихи с горестной строкой в конце «И нет на земле прорицаний», из-под пера Баратынского вышло стихотворение или даже маленькая поэма, в которой взгляд его, обращённый на этот раз в будущее, – теперь не в прошлое! – выводит поэта именно на стезю прорицания. Но как возникли эти стихи, где их происхождение! Их содержание пришло к Баратынскому из состояния, время от времени, видимо, посещавшего его и потому исключительного, знакомого ему одному. Он пытается его объяснить во вводной части стихотворения:
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье,
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Состояние, о котором Баратынский сообщает, надеясь объяснить последующее, неоднократно описано в духовной науке. Это, и вправду, состояние промежуточное, состояние между бодрствованием и сном («ни сои оно, ни бденье», – утверждает Баратынский). Оно равным образом выпадает из дневного бодрствования и ночного сна. Оно известно также в эзотерической практике прошлых эпох – оно вызывалось в мистериальных школах искусственно, но не потеряло своего значения и поныне. Человеку, умеющему удержаться на переходе от одного к другому, – от сна к бодрствованию, от бодрствования ко сну, – открываются обычно недоступные ему вещи. «Когда восточный учитель, – говорит Рудольф Штейнер о том, как состояние это достигалось в прошлом и какие оно имело последствия, – обучал своих учеников не спать и не бодрствовать, но пребывать на границе между бодрствованием и сном» то этим бывало вызвано «состояние, в котором можно познать многое, чего нельзя познать ни во сне, ни в бодрствовании» (Рудольф Штейнер. Художественная речь и драматическое искусство». М., Новалис. 2013. С. 86. / GA 282, 5.09.1924). И вправду, Баратынский добавляет к сказанному вначале об исключительном этом состоянии:
Он в глубине понятья своего,
А между тем как волны на него,
Одна другой мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон.
Состояние это давалось Баратынскому стихийно, но значение того, что ему было открыто в видениях, набегающих «со всех сторон», столь очевидно ему и столь важно не для него одного, что он, рискуя остаться непонятым, если не прослыть у современников фантазёром иди, – что для поэта, быть может и лучше, – безумцем, решается всё же передать узренное стихами.
Два непохожих друг на друга мира встают перед внутренним оком Баратынского. Он видит их во временной перспективе, в последовательном развёртывании сменяющих друг друга картин. Он уже дал понять, что не властен над образами, теснившимися в его сознание, и всё же у него была возможность задержаться на них и всмотреться в грядущее, которое пока таится в неведомом для современников мире. Это картины того, что ожидает человечество в будущее.
Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю, но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года.
Видение первое:
Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил,
Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало.
Здесь воспроизведено, пожалуй, конечное и счастливое примирение человека с Природой, от которой, как ясно сознавал Баратынский, человек однажды отпал. Притом человеку, восстанавливающему прерванную связь с Матерью-Природой, не пришлось лишаться своего главного приобретения, ума: «хитрый свой закон стихии все признать заставил он». Человек сумел наладить вновь добрые отношения с Природой, вернуть её доверие к себе. Сад Эдема, оставленный в прошлом, человек сумел словно заново вызвать к жизни, уравновесив равноценным ему рукотворным Городом. Природа и культура, говоря современным языком, встретились тут и примирились друг с другом. «Сад» и «город» на одной территории - уравновешивают друг друга как начало и конец истории.
Каким образом установилась гармония между ними? Не иначе, как благодаря тому, что средства, которыми человек, наконец, овладел («хитрый свой закон»), позволили ему заслужить доверие Природы. Примирение его с ней таково, что природа сама охотно даёт человеку то, что он ранее старался у неё взять.
Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им,
И даже враждебный человеку обычно зверь на суше и на море вернулся в подобающую ему среду.
И царствовал повсюду светлый мир.
Всё это и в самом деле заставляет вспоминать о райском саде, теперь заново обретаемом на земле. Так, пожалуй, должен будет выглядеть мир VI послеатлантической культурной эпохи. Похоже, что в этом мире, – где у Баратынского, правда, не видно, как к тому времени изменился сам человек, – цель развития человечества на земле вполне будет достигнута. Но что дальше, если видения будущего, которым стихотворение следует, не кончаются? Следующая за всем этим картина подводит земному процессу совсем иной итог.
Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? Что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Баратынский передаёт стихами только то, что ему открыто, но, человек своего времени, он замечает лишь внешнюю сторону ожидающего человечество будущего. Картины общего упадка расстилаются теперь перед взором поэта.
Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение своё
Фантазия взяла их бытиё.
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и в хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.
Человечество явственно движется здесь к подведению итога земного своего бытия. Разительный контраст с первой нарисованной Баратынским картиной едва ли возможно понять, не отдавая отчёта в том, что речь идёт теперь о завершении большого мирового цикла, начинавшегося гибелью Атлантиды, и оканчивающегося исчезновением человека как физического существа с лица Земли, а обе картины из видений поэта – это по всем признакам две заключительные фазы великой эпохи, то есть VI и VII культурных её подразделений, когда возможности прогрессивного развития самого человеческого рода на земле будут закономерно и окончательно исчерпаны.
Стихотворение это названо «Последняя смерть», но можно было бы сказать «Последнее воплощение». Картина физического упадка человечества в будущем, представившаяся Баратынскому, находит между тем подтверждение в данных духовной науки. Рудольф Штейнер решительно подчёркивает эту сторону имеющего произойти в будущем, говоря, что VI культурная эпоха при всём её величии – это всё же эпоха нисходящего развития, а за ней последует физический упадок обитателей Земли, хотя вслед за тем и восхождение к новым, более высоким формам жизни. «Посредством оккультного исследования можно установить, что в ходе шестого тысячелетия земные женщины при их нынешней организации станут бесплодными, не будут более рожать детей. Наступит совсем иной порядок вещей. Это нам показывает оккультное исследование». (10.04.1917. GA 175. S.217).
Почему же так скоро после культурного расцвета должен наступить неотвратимый, – а для Баратынского определённо непостижимый, – упадок? Ведь упадок этот, культурный и даже физический, лежит на той же линии развития, что и недавний сравнительно культурный подъём. Так бывает, пожалуй, когда по законам развития для человека, вступившего в возраст старости, возможности дальнейшего развития исчерпываются, когда он идёт навстречу физическому угасанию и смерти.
Тут необходимо поставить вопрос о возрасте человечества и в особенности его главного представителя в шестой культурной эпохе, славянства. В каком возрасте подойдёт славянство в предназначенную ему, цветущую в изображении Баратынского, эпоху? Славянство, в особенности восточное славянство, остающееся в наши дни в стороне от развития души сознательной, совершающегося в западном мире, должно ждать своего часа. Ведь культуре Самодуха отведено своё время, – начало её отнесено к середине IV тысячелетия. К тому времени западная культура как культура развивающейся души сознательной подойдёт к своему концу, но её конец – это начало культуры славянства Своеобразие этого момента в том, что славянство вступит в неё, сохранив всю полноту жизненных сил! Это силы ещё до старости оно будет сберегать нерастраченными, оставаясь в стороне от западного потока развития. Оно может усваивать культурные достижения души сознательной (подвергая их испытанию, проверке и насколько возможно переработке), но оно не творит эту культуру. Оно ждёт. В возрасте же, когда человечество в лице славянства войдёт в VI культуру, оно одухотворился, ибо когда человек физически стареет, «своему физическому старению он бывает обязан вспыхиванием духа» (12.10.1922 GA 217. S.144).
Но одухотворится человечество в VII культурной эпохе уже сверх той меры, которая позволяет ему пока что твёрдо ступать по земле, а телесная природа его, с помощью которой оно совершало долгий свой путь, потеряет привлекательность в глазах самих обитателей Земли. Только одно это видится Баратынскому. То же, что осталось для него за горизонтом его видения, в перспективе вовсе не безотрадно: за ним, как сказано, находится начинающееся восхождение человечества к формам жизни, в которые оно облечётся на обновлённой Земле. При том «Я-сознание, которое некогда вовсе не существовало, будет существовать и после последнего воплощения» (18.02.07 GA 96 S. 235).
В видениях Баратынского вдруг напомнило о себе наследие древних мистерий. В те далёкие времена их предметом были «не только прошлое человечества и его настоящее, но также и его будущее, – сюда всегда относились апокалипсисы» (21.10. 1904. GA 92. S.91) Из каких именно мистерий древности восходили в душе Баратынского его апокалиптические прозрения в будущее, отдельный вопрос. Значение прорицания Баратынского в том, что на его долю выпала, – очевидно, не вовсе случайно, – задача довести до сознания современников, но быть может также и потомков в России, те образы, с которыми восприимчивые к ним души с тех пор могут идти навстречу будущему.
Следует подчеркнуть, что на прозрение грядущих судеб человечества Баратынского вывело не движение художественной интуиции, а визионерское переживание, оставшееся в силу своей исключительности непонятым ни в его время, ни позже, так как интерпретировать его тогда не было средств. Однако в истории русской поэзии имеются случаи, когда поток самой стихотворной речи выводил поэтов на тот высокий уровень, где художественной интуиции открывается мир сверхчувственный.
* * *
Когда Аполлон Григорьев формулировал своё «Пушкин – наше всё» (1856 г.), пушкинская эпоха была уже давно позади, на неё можно было тогда только лишь оглянуться. Вяземский, Тютчев ещё подавали свой голос, но звучал он словно издалека. На подъёме находилась и завоёвывала общественные позиции проза. У поэтов пушкинской эпохи не было, – странно было бы подумать, если бы было иначе, – общей программы, но был мировой строй, в котором каждому находилось своё место. Была также одна общая всем им черта: они все оставались в наииональных границах. Проза же середины века с её чутким вниманием к социальной и нравственной проблематике, остававшейся ранее на периферии, выводила русскую литературу на мировой уровень. Область действия литературы расширилась.
Поэты также пытались не отставать от времени (Некрасов очевидный тому пример), но состязаться с прозой они не могли, и поэзия отступала на периферию литературы. Диапазон её тем сужался до субъективных, личностно ярко окрашенных переживаний: личная их жизнь вырастала в собственных глазах поэтов, тогда как ранее поэты, поднимаясь над самими собой, перерастали самоё себя. Лирика природы теперь последняя необорванная для них связь с миром. А.К. Толстой, Полонский, Ап. Майков, Фет – каждый из них выводит свой особый мотив. На этом пути у поэзии были не одни потери. Более замкнутая и сосредоточенная она обретает возможность выхода на уровень, недоступный для поэзии первых десятилетий века. Одним из примеров тому служит стихотворение А.К. Толстого, как будто продолжающее тему «тютчевских вёсен»:
Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив.
И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землёй.
В таких, как здесь, произносимых обыкновенно на выдохе конечных строках, итожится то, что привело в движение стихи. В самом деле, поэт видит, – но также и слышит! - как Земля соединяется с Небом, и в то же самое время человек – с миром, от которого он по установившемуся порядку вещей отдалился. Это случается, конечно, каждый раз весной, но всегда внове, а в русской поэзии событие это достигает поэтического слуха, пожалуй, впервые. И если вибрации, которые поэт улавливает в мире, недоступны настроенному на повседневность слуху, то ведь отсюда не следует, что мир не звучит и что человеку, хоть и в избранные мгновения жизни, невозможно достичь единения с звучащим этим миром.
В одной из своих лекций 1916 года Рудольф Штейнер поделился со слушателями переживанием наполняющих мир природы звучаний, возникающим в данном случае (у Штейнера) на иных путях, чем в стихотворении А.К. Толстого: «Происходит так,– говорил Штейнер в лекции, – будто внезапно начинаешь слышать и слышишь звучание вибрирующих струн, которые ранее не слышал, потому что был глух». (GA 35, S-245). В обоих случаях, у Штейнер и у А.К. Толстого, речь шла именно о природном процессе, который оба – посвящённый, как и поэт, – могут воспринять на слух весной. В отличие от русского поэта для Штейнера вибрация струн, соединяющая нижний мир с верхним, земной с небесным, не метафора, но данность, на которую духовного исследователя может вывести опыт. Рудольф Штейнер говорит тут не об одном только себе, но и о каждом, кому также, – но иначе, нежели поэту, - доведётся услышать звучащий, обычно скрытый от взгляда и слуха мир. Это вовсе не обесценивает высокие откровения поэзии. Ибо, – говорит Штейнер по другому случаю, – художественный процесс в сравнении с чисто духовным видением есть всегда нечто самостоятельное. – Пробуждение духовного слуха, достигнутое А.К. Толстым на подъёме его творческих сил, – событие в русской поэзии XIX века, особенно на фоне поэмы Баратынского «Последняя смерть», в которой поэт облёк в стихотворную форму переживания, выпавшие ему всё же за пределами собственно творчества.
Художественный прорыв А.К. Толстого в область инспирации, неуловимых обычному слуху звучаний имел всё же опору в повышении восприимчивости к слуховым впечатлениям во всех слоях русского общества сверху донизу, в совершавшемся в тайниках эпохи общем росте музыкальной культуры с середины XIX века. В небольшой заметке в. «Независимой газете» недавно (20 дек. 2022) М. Артемьев привлёк внимание к развитию в русской литературе того времени «внимания к тембру и высоте речи»: «У Пушкина ещё вообще нет ни теноров, ни баритонов. Он музыкально глух…Также нет ни баса, ни тенора, ни баритона в «Герое нашего времени». Можно сказать, что музыка приходит в русскую литературу вместе с Иваном Тургеневым». И верно: достаточно указать лишь на тургеневских «Певцов» в «Записках охотника»! А из рассказанного Тургеневым видно, что не одно только образованное общество, но и так называемые «низы», были привержены в то время к культуре музыкального слушания, Вся Россия слушала в те десятилетия обострённым слухом изъявления человеческой души и, как у А.К. Толстого, как бы сквозь сон, – Духа Природы.
* * *
Лирика Афанасия Фета, последнего большого поэта столетия, главным образом любовная, переходящая в лирику природы и окрашивающая её. Показательно в этом отношении стихотворение, по разным причинам обратившее в своё время на себя общее внимание.
Шёпот, робкое дыханье.
Трели соловья.
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной. Ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы, –
И заря, заря!
Сцена, которую поэт имеет в виду, скрыта от постороннего взгляда. Отсюда из стихотворения и элиминированы глагольные формы, – они не должны выдавать таинства двоих. Совершающееся между ними не подлежит словесному воспроизведению, на него целомудренно наброшен покров. Но тут присутствует ещё кое-что. В Фете словно проснулся человек IV культурной эпохи, причём греческого её раздела. Стихотворение, о котором идёт речь, как будто имеет в виду, что на любовные отношения людей устремлён взгляд богов. Известно, что боги греков вкушали «нектар и амброзию». Что разумело под этим тропом мифологизирующее сознание греков, объясняет Рудольф Штейнер: «Боги получают от смертных нектар и амброзию. То и другое означает любовь. Любовь рождается внутри человеческого рода. И любовь вдыхает поколение богов, она - пища богов. Любовь, которая порождается людьми, становится пищей богов. Это гораздо реальнее, чем электричество, как бы странно это поначалу не показалось. Любовь проявляется поначалу как половая любовь и развивается в высшую, духовную любовь. Но вся любовь, низшая и высокая, есть дыхание богов». (22.11.1906,GA 55.. S,95-96).
Стихотворение Фета возникло в такой момент в ходе развития русской лирики в XIX веке, за которым начинался её упадок. Волевой напор в ней с тех пор неуклонно снижается, русло поэзии мелеет, её дно обнажается. «К концу 80-х годов, – писал в своих «Воспоминаниях» М. Волошин, – в русской поэзии наступило полное истощение… «Вечерние огни» Фета были последним аккордом пушкинского стиха, прозвучавшим в те сумеречные и глухие часы.» (Собр. соч. Т.7(2). М.2008. С..332.). Как и стихотворение Фета, стихи, появляющиеся в печати в десятилетия конца века, поразительно бедны глаголами, перегружены существительными, прилагательными и наречиями и выделяются господствующей в них перечислительной интонацией, признаком вялости стиха. Вот пример такого стихосложения и при том не худший:
В чаще шорох потаённый.
Дуновение тепла.
Тополь, сверху озарённый,
Перед домом вознесённый,
Весь из жидкого стекла.
В чащу тёмную глядится
Круг зеркально-золотой.
Тополь льётся, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.
Последние строки вносят в предшествующие оживляющую струю, но тяготение к предметности в содержательном наполнении стиха ясно сказывается Автор этих строк И.А. Бунин, пробовавший свои силы в поэзии, ушёл затем главным образом в прозу, и это говорит само за себя. Менее одарённые его современники пишут стихи, которые едва ли запечатлеваются в эмоциональной, – ритмической, – памяти и лишены способности сопровождать читателя на его жизненном пути, как то свойственно стихам, созданным в XIX веке ранее.
Глагольное оскудение русской поэзии было общей и вполне закономерной тенденцией в эпоху торжества теоретического материализма. Разговор с Рудольфом Штейнером об этой проблеме в 1915 г. в Дорнахе вспоминал Андрей Белый. Белый передаёт, – в собственном изложении, разумеется, – мысли, высказанные Штейнером в той частной беседе: «…прилагательное – не то; существительное не то тоже; то и другое отбросы слова собственно; слово – глагол: оно – активная деятельность, надо действовать языком» (Известия АН. Серия литературы и языка. Т.59. №1). У самого Штейнера ту же мысль находим выраженной объективно и сдержанно: «То, что исходит из духа, не может хорошо говорить существительными. Ибо Дух не действует субстантивно. Он в непрерывном движении. Дух совершенно вербален. Он растворяет существительные. Он образует скорее придаточное предложение, чем существительное». (14.03.1921 GA 338. S,106). Опредмечивание языка поэзии с приближением к концу века лишало её ритмической основы и было причиной общего её упадка.
Оскудение выразительных средств поэтического языка поставило на повестку дня, как казалось, повышение культуры стихосложения, овладение всем богатством русской и европейской поэтической техники, доставшимся поэтам конца века от предшественников. В творчестве старших символистов, Вяч. Иванова, Валерия Брюсова, теоретиков и знатоков поэзии на рубеже веков, наблюдаются попытки вывести поэзию из стагнации, однако наполнить вялый пульс русской поэзии свежей кровью им не удавалось. Они слишком много знали о стихах, чтобы быть свободными от своего знания о них. Их архаизирующий подчас слог и изощрённая техника не позволили им оживить поэтическую речь, остававшуюся у них линейной и одномерной.
Реакция на безучастную перечислительную интонацию, установившуюся в поэзии вызвала появление у Александра Блока стихотворения, сделавшееся для современников своего рода опознавательным знаком эпохи, в которую они вошли. Написанное в 1912 году оно до сих пор памятно всем и каждому, обращающемуся к поэзии рубежа веков, а значит, и вышло за пределы своего времени:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века –
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Названные здесь по отдельности вещи изъяты их своих обыденных связей. Попав в стихотворение, они обретают качество символов, о каждом из которых можно было бы многое сказать. Однако, это совсем не те символы, которые деларировали символисты, – к запредельному они отношения не имеют. Они предельно посюсторонни и настолько, что жизнь останавливается, наталкиваясь на них Стихотворение фиксирует остановившееся время и застывшую жизнь. На восемь строк стихотворения лишь пять глаголов смягчают жёсткость контуров, попавших в поле зрения поэта предметов. Тут Блок противостоит возобладавшей в поэзии тенденции к заземлению, пользуясь её же средствами и поднимаясь над ними.
Одно знаменательно совпадение должно быть тут отмечено. Стихотворение Блока, написанное осенью, по настроению близко к содержанию 33 изречения антропософского Календаря души. Календарь души (собственно: душ) представлен был Рудольфом Штейнером на Пасху 1912 года в составе Календаря на 1912|1913 гг. 52 изречения, помещённые в нём, служат человеку проводниками в его следовании за сменой времён года от Пасхи до Пасхи. Они приводят душу в созвучие с ритмами, пронизывающими течение года, доводя до ясного сознания всё то, что душа переживает, обычно не отдавая себе в том отчёта. Стихотворение Блока, датированное 12 (23 н.с.) октября, выдержано в настроения приближающейся 33 недели (17–23 ноября 1912):
Только так чувствую я мир,
Что вне сопереживания моей души
Мог бы найти в себе
Лишь пустую холодную жизнь
И, являя себя лишённым силы,
Не творя себя заново в душах,
Мог бы найти в себе только смерть.
Можно решить в таком контексте, что и Блок шёл в своём стихотворение навстречу моменту, фиксированному в изречении 33 недели Календаря души. Если бы было всё же только так, тогда и настроение это, будучи отражено Блоком в его шедевре, было бы преходящим, – пройдёт осень, за ней зима, и мир вновь воспрянет весной следующего года. Но одним ли этим так памятны эти строки? Они держатся в памяти, – и надолго задержались в ней не только у современников! – не столько как вехи времени года, на которое пришлось их возникновение, сколько как знамение эпохи, в которую мир вступал и на которую чутко реагировал Александр Блок. Перед всеми ними лежал мир, из которого ушла душа, и теперь, – об этом сигнализировал Блок! – человек остался один на один с оголившимся, как деревья, с которых облетели листья, миром.
* * *
Александр Блок – явление переходной эпохи. Он как двуликий Янус оглядывается на XIX-й век и всматривается в наступающий XX-й. Он ни в том, ни в другом не чувствовал себя дома. Серебряный век русской поэзии был ещё впереди.
Однако на самом том переходе из одного века в другой в русской поэзии произошло событие единственное в своём роде: в октябре 1902 года в журнале «Русский вестник» началась публикация «Загробных песен» Константина Случевского (1837-1904). Случевский вполне вписывался в нисходящее движение русской поэзии, идущей у полному своему исчерпанию (см. обзор явлений в этой области в статье Е.В. Ермиловой «Поэзия на рубеже двух веков» в «Смена литературных стилей» М.,1974) и мог бы быть предан забвению вкупе со многими своими современниками, тоже писавшими стихи. Но «Загробные песни», которыми Случевский обязан своего рода пробуждению во время тяжёлой болезни, – он от неё и умер, но задержался, так сказать, в этом мире, чтобы поведать современникам о том, что он обнаружил в ином, – а тот, как удостоверяет Случевский, существует!
Случевский входит в приоткрывшийся ему мир через «узкие врата» – он стоит перед самим собой:
В час смерти я имел немало превращений……
В последних проблесках горевшего ума
Скользило множество таинственных видений
Без связи между них… Как некая тесьма.
Одни во след другим, являлись дни былые,
И нагнетали ум мои деяния злые;
Раскаивался я и в том, и в этом дне!
Как бы чистилище работало во мне!
С невыразимою словами быстротою
Я исповедовал себя перед собою,
Ловил, подыскивал хоть искорку добра,
Но всё не умирал! Я слышал: «Не пора!»
В том мире, куда Случевский попал, нелицеприятный взгляд на уже прожитую, как казалось, жизнь, являл ему его самого, каким он был в оставленной жизни на самом деле. Человек может знать свои слабости и сознавать свои недостатки, но то, что открылось теперь взору Случевского, превосходило всякое возможное допущение – он видит себя без утайки и при том в сознании, что ничего в минувшей жизни теперь нельзя изменить. С этого начиналось для Случевского вхождение в мир, который он, видимо, при жизни в земном теле не мог себе и вообразить.
Он, как и каждый в его положении, начинает новую жизнь там с оглядки на самого себя. Он видит «табло» (определение Рудольфа Штейнера) пройденной жизни, и это обнажение собственного своего существа перед самим собой есть так сказать условие освобождении человека от самого себя ради дальнейшего. Обзор этот продолжается недолго (столько времени, сколько человек в земной жизни может провести без сна), а затем наступает череда переживаний, с которых человек начинает осваиваться в новом для себя мире, – он вступает в отношения с его обитателями, а среди них прежде всего с близкими, совершившими переход из одного мира в другой прежде него:
Две первые встречи: отец мой и мать!
Как их в легионах других не узнать!
Сказали, что ждали меня уж давно,
Боялись, что дольше им ждать суждено.
…
Я долгие прожил за этим года,
Но вот совершилось… пришёл мой конец…
Голубушка матушка! здравствуй, отец!
Во всё более расширяющемся новом своём сознании Случевский углубляется в становящиеся всё более доступными ему области посмертного бытия, где все его земные опыты и знания, в которых он, как представлялось ему, преуспел, в частности знание истории, предстают в совершенно ином виде.
Я очень образован был,
Час смерти эту гордость сбил!
Я помню, чуть не от пелён
Я был в истории силён.
Но после смерти сбита спесь!
На что мне летописи здесь,
Когда людей веков былых –
Воочию всех вижу их?
И то же, то же в добрый час
И с философией у вас.
Случевскому открывается доступ в живую историю, – известный в посвятительной науке момент опытного познания, когда время, – для Случевского историческое время, – обращается в пространство и события вместе с их участниками видны сразу в их развёртывании из прошлого в будущее Он видит историю с той стороны и всю в настоящем, и хотя он даже не пытается передать увиденное сколько-нибудь внятно, он знает теперь непосредственно, что оттуда она предстает перед ним в своём истинном виде.
Глубочайшее из испытанных в новом мире переживаний наступает для Случевского, когда в его поле зрения возникает Христос:
И скоро было мне нежданное виденье.
То был Христос! Как не узнать Христа!
Надо подчеркнуть: он видит Христа, потому что может Его узнать, и узнаёт он его, потому что при жизни смотрел в эту сторону – «как не узнать!» Но и тут для него всё внове
Я опустил глаза в мгновенном ослепленье,
Молиться стал – не двигались уста!
Он виделся вдали! Я молча преклонился.
Был светлый день тогда. Загробный мир светился,
Но чудный блеск сияющего дня
Пред светом истинным, что от Него струился,
Совсем бледнел. Тот свет – он грел меня.
И я исполнен был такого наслажденья,
Такую радостность все чувства обрели,
Что всех земных блаженств счастливые мгновенья,
В острейших видах их, сравниться не могли.
Пока Он уходил, те чувства погасали,
И день бессмертия мне снова засветил.
Христос, чуть видимый, исчез в далёкой дали…
Да, да, исчез… Но всё же проходил…
Случевский точен в передаче своего видения: Христос проходит, а сам он, которому дано это видеть, остаётся, но так. должно быть, было и при жизни, только тогда проходил он сам. Впрочем, из дальнейшего следует, что появление Христа в поле зрения всё ещё живого, но попавшего в более высокий мир Случевским не было единственным. Хотя он ничего не добавляет к пережитому в первый раз, но вот– «Опять Христос!» – повторное это видение Христа многозначительно. Оно глубоко отпечатывается в недрах его души вместе с первым. Есть, однако, в «Загробных песнях» стихи, где Христос хотя и не назван, но по всем признакам то, что автор пережил при встречах с Ним, говорит уже изнутри его души:
Я никогда не устаю:
Страсть не волнует грудь мою;
Что б ни узнал, что б ни слыхал,
Я чист и светел, как кристалл:
Ему дробить лучи дано,
Что отразит он – всё равно;
Но я, как он, не недвижим,
Я вездесущ, неуловим;
Могу я быть, где захочу
Меняя место, не лечу
И не иду!.. я тут и там,
По всем годам, по всем местам.
Особым свойством бытия
Во мне божественное «Я».
Стихи эти из цикла «Смерть и бессмертие» (внутри «Загробных песен») можно было бы посчитать итоговыми, хотя они и не стоят в конце этого единственного в своём роде в русской поэзии повествовании об опытах человеческой души, вернувшейся в земную жизнь из-за черты Порога.
«Загробные песни» выводили русскую поэзию на тот уровень, на который бы она тогда собственными усилиями не вышла, но они – и в этом была их заслуга – открывали для современников область, от которой в преддверии нового века уже нельзя было бы отвернуться. Несмотря на это за редкими исключениями темы «Загробных песен» не возвращаются в поэзии XX века. Как и в своё время «Последняя смерть «Баратынского, они не нашли заметного отклика у современников. Один лишь Брюсов отозвался на публикацию «Загробных песен», поставив их автора в связь с Моисеем за свойственное их автору «косноязычие» (в котором создатель Книги бытия признавался), и ещё, быть может, смутно ощущая, что и тут, в «песнях» Случевского открывается сопоставимая для того времени великая перспектива (Валерий Брюсов. Далёкие и близкие. М., 1912. С.41). Для поэзии «Загробные песни» прошли бесследно. Для поэтов, готовящихся тогда вывести русскую поэзию на новые пути, мир, в котором они жили, был тем же, что и для Александра Блока, а ведь они были его младшие современники. Из каких ресурсов, Блоку тогда не открытых, могли черпать они, чтобы впоследствии сообщить русской поэзии новый взлёт в так называемом Серебряном веке? У них не было прямых генетических связей с предшественниками. Это была другая поэзия во всех отношениях. Понимая это в глубине души, они чуть ли не в один голос исповедовали приверженность к Пушкину. Но и ресурс, из которого они теперь черпали, был тоже другой. Это был в своём роде «неприкосновенный запас», о котором следовало бы говорить отдельно.
Автор благодарит д-ра Андреаса Шнебеле (Карлсруэ), в своё время обратившего его внимание на «Загробные песни» Константина Случевского.